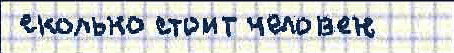Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
(После 1964 года)
Дорогая Лидия Эразмовна!
Позавчера я завершила свое «турне» и должна признаться, что, что бы ни утверждали наши корифеи поэзии, приятно возвращаться «…с милого севера – в сторону южную…»
Я – дома… Но нужно ли повторять, что когда дом пуст, безнадежно пуст, и ничего, кроме одиночества, в нем не ждет, то… все равно не чувствуешь себя «дома».
Первым долгом я съездила на кладбище. Но там до того уныло!
В свое время маме приносила огромное облегчение возможность посетить папину могилу. А мне – нет. Мне все кажется, что мама где-то совсем рядом, и стоит мне обернуться – и я встречу ласковый взгляд ея любящих, ясных глаз. А иногда меня мучает такое чувство, будто она ждет от меня письма и надо обязательно поторопиться его написать.
Я полагала, что, может быть, мне полегчает, если я отслужу панихиду. Но вот уже трижды я служила панихиду… и ничего, кроме ощущения какого-то кощунства, не осталось. Каждая струна отзывается на определенный звук, а что может отозваться в душе верующего человека после всех этих квитанций, требований, расписок – перечень этих бухгалтерских формальностей вывешен в церкви и убивает всякую возможность ощутить присутствие Того, Кто, обычно, присутствует, когда люди собираются во имя Его.
Что поделаешь? Отчасти в том – и моя вина: никак не могу отделаться от мысли, что всякий священник – «потенциальный ренегат».
Да простит мне Господь! Но мне остается лишь воскликнуть: «Верю, Господи! Помоги неверию моему…»
Но все это – позади, и я подвожу итог: стоило ли ехать? И сама не знаю, что и ответить.
Я не выполнила затеянной программы; а та часть, что я выполнила – меня не удовлетворила.
Ленинград меня разочаровал. Летом, припудренный и подкрашенный солнцем, задрапированный зеленью, он похож на перезрелую красавицу, видавшую лучшие дни и пытающуюся сохранить хоть видимость благообразия; теперь же, под серым небом, с которого капает, серый, обшарпанный и пощербанный, он откровенно напоминает потаскуху, забывшую нарумяниться и даже – более того – не захотевшую умыться. Мутная мгла вверху, смесь из снега, соли и песка, напоминающая гороховое пюре, внизу… Если же учесть, что в воздухе куда больше «большой химии», чем кислорода, то нет ничего удивительного, что я поняла, что такое – сплин и почему в Лондоне количество самоубийств стоит в прямой зависимости от густоты тумана. Тоска!
Побродить на лыжах по Карельскому перешейку удалось лишь на самый ничтожный процент программы. И то – это стоило больших усилий: снег «налипал», несмотря на разные мази, и это ужасно утомляло и раздражало. Все же я кое-как ознакомилась с довольно красивыми местами на побережье Финского залива, в лесах за Комаровым и на Ладоге. Снег был очень глубокий – местами метра полтора, что при моих габаритах и гоночных лыжах затрудняло продвижение без лыжни «целиком». Встречала лосей, которые, так же как и я, продвигались с трудом.
В Таллин не поехала из-за оттепели. А жаль – доктор Мардна приглашал меня, и я бы охотно его навестила.
Я вернулась снова в Москву, где хоть морозы держались подходящие, и можно было побродить на лыжах. Погода держалась все время хорошая: солнечная, морозная, почти безветренная, и я получила настоящее удовлетворение от прогулок по местам, где никого не встретила и где даже почти не чувствуется близость города.
Удивительное дело! Имея такой удобный вид транспорта, как электричка, и такое изобилие еще не заплеванных и почти не затоптанных лесов, москвичи лишь по воскресеньям становятся на лыжи… и то – лишь те, кто находится в домах отдыха и обязан «по долгу службы» это делать, и не может сбежать в кино!..
Из «обжитых» мест мне больше всего понравилось Абрамцево. Должно быть, потому что это ассоциируется с Шишкиным, моим любимым художником. Там – как-никак – художественный «заповедник», и хотя никто у нас не уважает заповедников, но все же там не все подряд уничтожают. Я там бывала несколько раз по будням, и поэтому одна. И никто мне не мешал рассматривать «Избушку на Курьих Ножках», построенную по рисунку Васнецова, на каменную скамью, сделанную Врубелем. Но еще лучше было бродить по «необжитым» лесам, где нет лыжни и нет «разрядников».
Зато сама Москва у меня ничего, кроме отвращения и тошноты, не вызывает! Не могу видеть этих оголтелых людей, которые движутся, мечутся, мчатся, толкают… Не чувствуешь, что эта толпа – жители города и часть народа. Кажется отчего-то, что каждый из них, в толпе, одинок, как в джунглях, и враждебен, как в тюрьме.
Может, я не права и сужу так в силу предубеждения. Мне всегда кажется, что в городах – в больших городах – люди никогда не смотрят на небо, не видят его. А ведь увидеть, на что похожа человеческая душа, можно только увидеть, смотря на небо, так как это – зеркало, в котором отражается все прекрасное. И мне кажется, что у всех этих горожан, которые спешат и пинают друг друга, не отвечают на вопросы и утыкают носы в книжки и на эскалаторах метро, и в автобусах, и в трамваях – у всех них души какие-то дефективные, так как они смотрятся исключительно в кривые зеркала.
Иначе чем объяснить ту черствость, которая сквозит во взгляде каждого горожанина и налагает отпечаток враждебности во всяком жесте, поступке, слове?
И все же кое-что мне в Москве понравилось. Это – плавательный бассейн на открытом воздухе. Одно лишь обстоятельство является той «ложкой дегтя», которая портит вкус бочки меда. Это – то, что бассейн построен на месте взорванного Храма Христа Спасителя – красивейшей жемчужины русского зодчества.
Хамство в отношении произведений искусства всегда возмутительно! Пусть греки давно не веруют ни в Зевса-Громовержца, ни в Афину-Палладу, но Акрополь – гордость Греции, ея былое величие, олицетворенное в камне, и они чтут эту национальную святыню. Наши дикари боятся и ненавидят то, что способно возвысить душу путем красоты. Может быть, оттого, что за красотой внешней формы чувствуется возвышенная, нерукотворная красота? И поэтому они «сводят счеты» с архитектурными памятниками, за каменными контурами которых чувствуется душа. А поэтому так много прекрасных памятников зодчества было взорвано, а оставшиеся – или опошлены, обесчещены и вынуждены фигурировать в качестве «музеев атеизма», то есть проституированы, а остальные, доведенные до состояния деградации, превращены в какие-то пугала, и невольно вспоминаются слова «…и старцы внукам говорят с улыбкою самолюбивой…», «как он уныл, и худ, и бледен…», «как он беден, как презирают все его…»
А «внуки» понимают по-своему и ведут себя по-хулигански со всеми произведениями искусства вообще. Например: на этот раз я дважды побывала в Эрмитаже, с интервалом в пять дней. В первое свое посещение я обратила внимание, что у статуи Венеры-купальщицы (стоит она слева от лестницы, возле ларя с «котами» и дивана, на котором их одевают), губной помадой симулирована менструация. Я была уверена, что «блюстительницы» (а их – уйма) это ликвидируют. Однако, когда через пять дней, после того, как тысяча людей могла это увидеть, все было по-прежнему, я с возмущением указала одной из распорядительниц на это безобразие.
Или – статуя Аполлона в Павловске, из темной бронзы… и лишь одно место, начищенное самоварной… Но… Аллах с ними! Ведь каждый по-своему с ума сходит!
Об одном лишь я жалею: что я не побывала в Калинине. Хотела повидать Антошу… Я бы съездила на денек, если бы у меня не разболелось горло. Тогда я предпочла «смотать удочки»: болеть надо у себя дома. Однако я все же заехала к Маргарите Эмилиевне в Сумы. Она очень меня ждала. Я не могу забыть, что, сама больная (стенокардия), она приехала ко мне, чтобы помочь ухаживать за мамой… А нынче, в октябре, умер ея единственный сын – молодой, всего сорок два года, профессор физики. Я его знала и очень уважала его. Не могла же я проехать мимо и не побывать на его могиле!
Маргарита отпоила меня горячим молоком и я от нея уехала почти здоровой, и теперь жалею, что не завернула по пути в Донецк, к своему «главному инж», Гордиенко, а затем – в Ростов, к родителям того паренька, которого я нынче «посвятила в альпинисты», протащив по ледникам и перевалам.
Итак, я дома и здорова. Уже «погрузилась в родную стихию» – вожусь с чужими садами, подстригаю виноградники и жду, когда надо будет кропить, прививать и т.д. и т.п.
Надеюсь, что и Леонид Андреевич дома и здоров, тоже впрягся в привычную лямку… хоть боюсь, что эта «лямка» не так приятна и, особенно, полезна для здоровья, как труд садовода. Деньги? Увы! Они так же нужны, но… вспоминайте «Шагреневую Кожу».
С приветом. Фрося.
Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
Ессентуки – Москва,
20 апреля 1965 года
Христос воскресе!
Усевшись за своим столом с благим намерением приняться за пасхальные письма, я с грустью убедилась в том, что среди моих корреспондентов «не-нехристей» раз-два и обчелся!..
Впрочем, чему тут удивляться? Отношение ко Христу бывает троякое:
как у Иуды, под видом лобзания, предающее;
как у Пилата, «умывающего руки» под предлогом беспристрастности
или как у тех римских воинов, которые прибивали гвоздями Его руки и ноги… потому что были глупыми и дисциплинированными.
Впрочем, был еще и разбойник, раскаявшийся, когда его также распяли;
был еще святой Петр, прозванный Петрус за то, что вера его была тверда как камень… что не помешало ему трижды отречься…
Но теперь кто задумывается о значении праздника, о его мистике? Даже о внешней форме, о «храме Господнем» теперь немногие вспоминают и – решительно все забывают о том, что «…где трое собрались во имя Мое, там и Я с ними» и что за фасадом, украшенным колоннадой, может скрываться много гадости.
Правда, можно задаться вопросом: а что общего у праздника Воскресения Христова, то есть торжества жизни над смертью, добра над злом и… куличами, пасхами, окороком, жареным поросенком, индейкой с каштанами, крашенками, мазурками и прочее и прочее? И все же… Всякая победа, в том числе победа добра над злом – дает радость, веселье. И хотя давно известно, что «на Руси веселие есть пити», но Русь даже и в теперешних ее границах и под нынешним ее псевдонимом все же одна шестая всей земли, а вся земля – все ее шесть шестых – когда веселятся, любят хорошо поесть. И не только люди.
Если верить Дедушке Крылову, то и стрекозе «на ум нейдет на желудок петь голодный». Даже людоеды, съевшие капитана Кука, я уверена, пели песни. Таково представление человека о празднике. Это относится не только к людоедам, проглотившим капитана Кука, но и к тем, кто «проглотил» уйму литературы и начинен разными «измами», как птичий зоб – зерном: никто из них не станет утверждать, что в праздник ему вполне хватает промаршировать со знаменами или тамтамами!
А поэтому нет основания отворачиваться от пасхального стола. Это не чревоугодие, а особый вид праздничного настроения… Это – не «чревоугодие», а особый вид «праздничного настроения». Можно было бы сказать: «кто – о чем, а курица – о просе», но это – не совсем так. Чтобы не нарушать диету, я пойду в пасхальные дни побродяжничать в горы. Таким путем я избегну двух соблазнов: «не предамся греху чревоугодия» и… воздержусь от «агротехнических мероприятий», а для меня не работать – еще трудней, чем «воздержание».
Впрочем, выполнение моего намерения зависит от погоды, которая нынче ни на что не похожа! Уж давно бы пора садам цвести – у нас здесь к первому мая обычно сирень цветёт, а нынче – холодина полярная: снега выпало по колено, и пурга свищет вовсю. И непохоже, что уже май на носу! Другая причина неважного у меня настроения – это неполадки со здоровьем: аритмия, одышка…
Ну, на этом можно и составить точку.
Еще должна признаться, что мне очень не хватает писем Владимира Николаевича! А уж к Пасхе он никогда не забывал написать. А теперь у меня остаются лишь воспоминания, и самое щемящее из них – это отсутствие моей ласковой старушки: она так любила весну, так радовалась каждому цветочку! И всегда на Пасху мы перебирались в «вигвам», так как в «доме» был ремонт и покраска полов. Маме так нравилось, что там, хоть тесно, но уютно и в открытую дверь просовывается ветка цветущей яблони. А на столе, накрытом, хоть в миниатюре, но по всем правилам, букеты гиацинтов и фиалок. А теперь – холод и одиночество. Тоска.
Ну, хватит! Желаю Вам с Л.А. всего доброго. Как здоровы?
Ф.
Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
2 мая 1965 г.
Дорогая Лидия Эразмовна!
Мы обменялись письмами. Они были обстоятельными… и «сезонными» – правильно подогнанными к праздничным дням, когда даже те, чьи письма не обязательно «на высоком уровне» и требуют вдохновения, все же их пишут (хоть предпочитают обмениваться шаблонными, бессодержательными открытками), так что не грех было бы «почить на лаврах» и не перегружать «почтарей» сверхплановой продукцией.
И все же «ловлю мяч на лету» и отправляю его в Вашу заполярную сетку.
Прежде всего, чтобы извиниться еще раз перед Леонидом Андреевичем. Я люблю получать умные письма, а плоские открытки и холодные телеграммы меня только раздражают; я люблю встречаться с умными, приятными людьми, но встреча на две минуты (и те – с оглядкой) – это… так же утоляет жажду, как мираж в пустыне. А поскольку люди «меряют все на свой аршин» – то и я решила, что Леониду Андреевичу будет мое посещение так же малоприятным, как мне – получение телеграммы. И я не отложила поездки в Ленинград… за что меня Бог и наказал: больше двух недель я там кисла под дождем и наслаждалась туманом, и даже когда можно было ходить на лыжах, то лишь с утра; позже я прилипала к снегу, как муха к «липучке», и приходилось для передвижения пользоваться дорожками – что лишает лыжную прогулку всей ея прелести.
Но это еще не все. Вы уж меня извините за откровенность: дипломатия никогда не была «моим коньком», и недаром еще двадцать лет назад Вера Ивановна сказала, что, если есть люди, способные пройти по тонкому льду, то я могу провалиться на булыжной мостовой, а поэтому говорю – «паки и паки»: уважаю рабочих лошадей и сама тянулась в работе не только изо всех сил, но и сверх сил; с увлечением работала по две, а бывало, и по три смены – не говоря уже о том, что ежедневно перерабатывала лишние часы; я так любила свою работу, что – хоть я всего лишь женщина и силы мои ограничены – но ум и сердце были открыты, и потому я не преувеличу, если скажу, что постигла многое и достигла того, что было не под силу большинству… и никому «не по душе»: я была настоящим – умным и честным – шахтером. И это знали и понимали не только товарищи, но и начальники. А чем кончилась моя шахтерская карьера? Стоило полковнику МГБ свистнуть – и вся свора ринулась меня терзать и топтать. И вышвырнули бы меня из Комбината – без стажа, без права на пенсию, без права взять к себе мать – и растоптали бы в угоду тому, кого боятся, перед кем раболепствуют – если бы не простые рабочие (и то, главным образом, не шахтеры, а рудари, которых не могли опознать холуи, сидящие в президиуме. Там, где высший стимул – страх, там процветает хамелеонство, и честный труженик идет не по жизненному пути, а по зыбкой трясине: он может пройти по зыбкому ковру; он может перескакивать с кочки на кочку, он может чутьем, выработанным опытом, «угадать» безопасный курс… но он может и захлебнуться в зловонной жиже, и никто не кинется на выручку, так как зловещая трясина вселяет ужас.
И все же… я очень хорошо понимаю, что работа увлекает и даже самые мудрые люди не любят оглядываться на «историю», которая, однако все ж таки наука… хотя ее всячески насилуют в надежде, что она в конце концов родит что-нибудь более жизнеспособное, чем все те неудачные ублюдки, которые превратились в упырей.
А затем… С чего это Вы взяли, что Пьерушка – «дикий мустанг»? Напротив! Он всегда был очень старательной лошадкой, стремящейся «рысить» даже в тяжелой упряжке и лишь изредка мотающей головой, когда вожжа под хвост попадала. Вышел он на пенсию лишь тогда, когда его стертая холка и разбитые копыта не могли больше служить… тем более, что его дамы – тоже добросовестные, но вечно болящая Елочка и Вавочка – выездная лошадка, знавшая всю свою жизнь лишь один маршрут (да и тот проходила в шорах) и одну лишь легонькую повозку, вместе с ним составляют не «пару гнедых», а тройку – не гнедых, а довольно разномастных и разного роста, кляч. Так разве можно называть «дикими мустангами» – отработавшихся «до ручки» Росинантов, не использованных, за ненадобностью, на живодерне?!
Недавно у нас провожали на пенсию одну докторшу, беззаветно работавшую до чуть не шестидесяти пяти лет. Ее чествовали… а она расплакалась: «работала, работала… вот и не заметила, что жизнь и прошла… и – ничего, ни одного воспоминания, кроме работы». Зато – творчество, добро, сделанное людям? У врача – да. Хотя… У меня осталось одно скверное воспоминание. Как-то Кузнецов вне очереди взял у меня 450 мл крови и влил двум оперированным. Они оба выжили, но один из них, Никитин, через два года совершил безобразное преступление: зарубил и зарезал семь человек – из них трое детей… Может быть, без моей крови он подох бы?
Норильск растет, процветает. Леонид Андреевич строит, обеспечивает людей благоустроенным «жильем». Норильск поставляет, в основном, никель, а никель – 95-98% его идет на военные цели – легированная сталь и т.п. (почитайте книгу канадского писателя «Дети без отцов») Так где тут – добро, где – зло?
Творчество – цель жизни. Да. Цель и ея оправдание. Человек добывает металл; другой человек из металла делает станок; на этом станке изготавливают другой станок, на котором будет изготовлен самый гениальный, усовершенствованный станок, на котором, в свою очередь, создадут станок-робот с дистанционным управлением, способный привести в движение «военную машину»: его не будет мучить совесть (у гениальных машин ни совести, ни жалости не изготовляют), и он пошлет атомную смерть, способную уничтожить половину человечества… и, может быть, автоматически приведет в действие другого робота, который нанесет ответный удар, уничтожающий оставшихся в живых.
Какой дивный апофеоз творческой работы!
Эх! В конце всякой жизни – смерть. Это – единственная непреходящая истина. И кто сможет с уверенностью сказать, что умнее, справедливей, правильней – работать для того, чтобы создавать думающие машины… и людей, не смеющих, а со временем – не умеющих и не желающих думать, или… Сесть в свою машину, не спеша поездить по свету, останавливаясь там, где еще есть красивые, неизгаженные места, где… «вижу счастье на земле и в небесах я вижу Бога» – без дыма заводских труб, без линий электропередач. А еще лучше – побродить пешком; взобраться на Тянь-Шань… И все это – не дожидаясь приступа гипертонии, стенокардии, гастрита, гепатита, радикулита – одним словом, всего того, что является реальной платой за честный труд.
На днях слушала лекцию о гипертонии и пр. и пр. Наконец догадались, что атероматоз не имеет никакого отношения к питанию – в частности, к жирам; корень зла – в нервном напряжении и перенапряжении. Диеты и лекарства – паллиативы… да и то, чаще всего, «палки о двух концах». Но… все человечество влезло в трясину, выхода из которого нет: всегда нужно кого-то догонять и перегонять, кому-то «подставить ножку», чтобы тебе ее не подставили.
И все гордятся своим вкладом в изготовление коллективного самоубийства. Да здравствует досрочное перевыполнение плана по этой продукции! Но Вы решите, что я окончательно свихнулась и, поскольку никто не может ответить на вопрос «Что есть Истина?» – то, может быть, Вы правы.
А я упала в люк подвала, расшибла надкостницу голени, рана плохо заживает, но – хоть и с трудом – ползаю: весна, наконец, наступила, работы – уйма. А к чему и цветы, и деревья? Все равно меня отсюда выселят. Но, хоть больно и… грустно, но «работаю» и я. А – к чему?!
Извините: начала «за здравие», а кончила – «за упокой».
Е.К.
Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
11 августа 1965 г.
Дорогая Лидия Эразмовна!
Уж и не вспомню, кто из нас перед кем «в долгу»? Да это и не важно: пишет тот, у кого накопился материал… и у кого «писучее» настроение.
У меня и того, и другого набралось столько, что просто «распирает», а кто поймет тот восторг, который я испытываю каждый раз при встрече с неизгаженной, настоящей природой? Даже Вы для этого слишком «горожанка», но, по крайней мере, Вы обладаете художественным вкусом и воображением, и поэтому хоть не пожмете с презрением плечами…
Эх! Были времена – были у меня товарищи – славные ребята, друзья молодости, спутники наших первых «походов» (тогда о «туризме» никто еще не говорил, и нас считали не только «чокнутыми», но непонятными и поэтому – опасными). Сержик – лежит под Одессой, Валька – у Днепра, Юрка – под Сталинградом, Ира – умерла от туберкулеза. Никто из них не дожил до 43-го года… и не перешагнул тридцати пяти лет. А мне… увы, не семнадцать лет, пятьдесят восемь. И я – одна («ныне, присно и во веки веков»). И, куда бы я ни пошла, со мною рядом шагают их тени, и мысленно с ними я делюсь первыми впечатлениями. Но ответа от них мне уж не дождаться… до Страшного (может – не очень страшного?) Суда.
А пока – к делу! А «дело» было в том, что захотелось мне – дня на два, на три, – съездить в Архыз – красивое место на реке Зеленчук. Очень уж мне его нахвалили, этот самый Архыз!
Поехала туда автобусом, через Черкесск. В станице Зеленчукской пересела на маленький автобус и по довольно-таки красивой дороге в тот же день, к вечеру, добралась до пресловутого Архыза. Красиво – спору нет… Пошла вверх по Зеленчуку – зеленовато-голубая, пенящаяся и беснующаяся горная речушка, в скалистых берегах, поросших лесом, переночевала в лесу и на рассвете двинулась к Марухскому перевалу. Прошла через речку Птыш (совсем уже бесноватую), заглянула на ледники белоснежной горы Софии и… «Аппетит, который приходит во время еды» (а у меня вообще – всегда богатырский) так разыгрался, что захотелось мне не ограничиться районом Архыза, а махнуть через Кавказский хребет, выйти к озеру Рице и по ущелью Юпшара – пройтись к морю.
Были серьезные препятствия для выполнения этого проекта. Главное – полное незнание географии этого района: я перед «походом» даже не заглянула в ученический атлас, чтобы хоть чуть-чуть сообразить, куда идти? А расспросить – нечего и думать: я там находилась «нелегально» и нужно было путешествовать, сохраняя «инкогнито»; кроме того, проводники-экскурсоводы сами знают маршрут «отсюда – и досюда».
Второе препятствие – довольно шаткая «материальная база»: я взяла с собой одну булку черного хлеба, полкило сахара, полкило сыра, полкило сухой колбасы и две банки говяжьей тушенки и триста грамм мятных лепешек. На малину и прочую ягоду рассчитывать было нечего: они только еще цвели, а грибы – также отпадали: спичек я с собой не взяла.
Но… «…с твердой верою в Зевеса вступает Ивик в чащу леса…» Я решила перевалить через водораздел, выйти к реке Лабе и по ней, вверх по течению, через перевал Пхея, а дальше… куда-нибудь «кривая вывезет»?! Но, отдыхая у ручья, я разговорилась с каким-то краеведом, который вел группу туристов, и обиняками проинтервьюировала его. Оказалось, что перевал Пхея – скучноватый: сперва сорок километров – вырубленный лес, затем сто километров – голые горы, а дальше – неизвестно что… Зато очень расхваливал он Северо-Кавказский Заповедник. У меня, как говорится, «слюнки потекли»: Зевес-то – один; так почему бы Ивику не изменить маршрута? И вот через перевалы Дунканский и Задуганский вышла я на реку Лабу и, вверх по ее притоку, – в Заповедник, к перевалу Умпырь. Самый «Заповедник» начинается от вершины Умпыря, а до того в альпийских лугах еще встречаются отары овец, и я рассчитывала порасспросить чабанов о направлении и «ориентирах». Увы, единственный встреченный мною на самом перевале чабан оказался… глухонемым… Помоги же мне, Зевес! Больше рассчитывать не на кого!
Должно быть, все, что бы ни случилось – к лучшему: если бы я попала на «правильный» путь – на единственную в заповеднике туристскую тропу, то я бы и увидела только то, что видят туристы. Но я пошла вниз не по правому, а по левому берегу речушки Умпырь – абсолютно непроходимому – и получила настоящее представление о том, что такое «места, где не ступала нога человеческая». Далось мне это нелегко. Но – окупилось «с лихвой» – что и говорить!
В свое время я видела сибирскую тайгу – с ея трясинами и буреломом; но что такое «лавинные прочес» – на головокружительной крутизне – огромные пихты, наваленные друг на друга в четыре яруса и переплетенные зарослями осины, малины и… крапивы, выше роста, водопады, шумящие под снегом «лавинного выброса», по которому надо переползать. И все это – с рюкзаком, в котором был, как говорится, «и стол и дом»… который мне помог «форсировать» не один бурный поток – уф! Это была «физзарядка»! Но, поскольку спешить мне было нечего, я и не расстраивалась и продвигалась по системе «тише едешь – дальше будешь»… и больше увидишь.
Первая, кого я увидела – была дикая Хавронья со своим полосатым потомством. Она так по-домашнему вскинула уши-лопухи и сказала «рох!» с таким упреком, что я почувствовала всю невежливость своего вторжения. Но она поразительно быстро для своих коротких ног скрылась из виду. Зато газели, которых я встречала довольно часто, отнюдь не торопились убегать, если стоишь неподвижно. Однако при первом движении они прямо «вспархивают», как птицы, но далеко не убегают и все оглядываются, тараща глаза. Особенно – самцы. Самая же интересная встреча была уже вечером. В чаще уже были сумерки. Не стану лгать, я чертовски устала. Надо было обязательно отдохнуть, выспаться, чтобы сердце не сдало. Я шла по карнизу; внизу, метрах в двадцати пяти, ревел поток; я адски хотела пить, но, как назло, ни один родничок не вырывался из-под камня и ни один ручеек не пересекал мой путь. Спуститься вниз по круче? Можно бы рискнуть, но… сил не хвати, чтобы выкарабкаться, а ночевать на камнях, в брызгах? Это – тоже не выход… Я остановилась, вынула из футляра фотографию мамы и сказала вслух: «влипли мы с тобой, моя старушка!», и вдруг… подняв глаза, я увидела шагах в восьми, за купой берез, растущих из одного пня… великолепного самца зубр-бизона! Он смотрел на меня не то чтобы сердито, а вроде с удивлением, и покачивал кучерявой шеей. Меж рогов, наподобие султана, качался пук черных волос. Хвост – также украшен длинными волосами.
Вот это значит – действительно влипнуть. За спиной – отвесный овраг, сбоку – две огромных пихты свалены крест-накрест, а впереди – этакое чудище!
Я двинулась бочком вдоль оврага; он – тоже тронулся параллельно мне; я стала – и он тоже, повернувшись головой ко мне. Я пошла – и он пошел. Фу ты! Всю жизнь мечтала о таком компаньоне!
Но усталость взяла верх: будь что будет, но я укладываюсь спать! Взяв топор, я нарубила елового лапника и устроила себе постель под пихтой. Куда и когда ушел зубр – я так и не заметила: несмотря на свою громоздкость, двигался он очень ловко и почти без шума. Ну и слава Аллаху! Спать! Но… как? Присутствие зубра – полбеды; отсутствие воды – это беда! Ничего не поделаешь: хоть и «голод – не тетка», но жажда хуже… Разумеется, отжала грязь из шерстяного носка, помотала им по мокрым папоротникам и выжала в кружку глотка четыре росы. Была она горькая и воняла резиной, но… уснуть я смогла спокойно.
Утром я была вознаграждена за все неудобства – я повстречала целое стадо зубр-бизонов. Были там и телята, и прошлогодние подтелки. Всего – восемь голов. Впрочем, они умчались, как вихрь – вверх, по такой крутизне! Вот это – сердце!!!
Дальше все шло почти что гладко. Я сориентировалась и шла почти не сбиваясь с направления. Впрочем, вместо того, чтобы выйти па перевал Уруштен, я попала на гору Алоус – самую высокую в заповеднике. Там я переночевала и была вознаграждена тем, что на рассвете увидала самца-оленя – красавца с рогами в шестнадцать концов. Вот это – красота! Они, скрываясь от мошки, взбираются на самые вершины. Туров встречала не раз, но они очень осторожны и на скалах, как и в чащобе – близко не подпускают. Трудно себе даже представить быстроту их бега и легкость прыжков! Там же, на Алоусе, но уже на спуске, могла любоваться жутковатой картиной: разразилась гроза. Воды было не очень много (я под густой пихтой даже и не промокла), но молнии – яркие, как электросварка – вонзались, казалось, в каждый утес.
Вообще святой пророк Илья меня не баловал: дважды в день был дождь и, хотя я отсиживалась под пихтовыми ветвями, густыми, как войлок, но… идти приходилось все равно по зарослям папоротников и разных цветов, так что я промокла до самой шеи. Но для ночлега у меня в запасе было сухое шерстяное белье и одеяло, так что спала я как сам царь, если не лучше. На ночлег я останавливалась еще засветло, придирчиво выбирая себе квартиру со всеми удобствами: чтобы пихта была поразвесистей, повыше, не в долине; чтоб под ней – со стороны горы – было вытоптано овальное углубление (там зимуют зубры и туры, укрываясь от пурги), и чтобы «лапник» был помягче, да чтоб ручеек протекал рядом. Я не люблю баловства – разных там перин и подушек, но отдых должен быть полноценным. И как приятно просыпаться при первой трели зяблика – когда чуть светлеют вершины, а ночь – уползает в долину, под одеяло из облаков! Первые часа два-три шагаешь торопливо, под аккомпанемент утреннего концерта. Дело в том, что температура близка к нулю, а роса струйками течет за шиворот. Лилии всех цветов очень красивы, но в каждом «колокольчике» – ложки полторы-две воды – притом очень «бодрящей» температуры.
Признаться, я не рассчитывала, что мне предстоит взять восемь перевалов; я полагала – два-три… Может, у меня бы и не хватило мужества; а так, сидя на четвертом и зная, что впереди – еще столько же, на душе было легко и спокойно. В желудке – так же. Но, если мои «запасы» приближались к концу, то и путешествие – тоже. На перевале «Холодный» я вышла на туристскую тропу и в дальнейшем придерживалась ея. Шла она девятнадцать километров по хребту, где на каждом шагу попадались «снежники». Каких только цветов я там не встречала! Вокруг снежных пятен – густой бордюр из темно-винного цвета фиалок, анютиных глазок и темно-синих гофрированных колокольчиков. Скатившиеся с гор обломки скал – словно в воротниках из нежнейших папоротников, среди которых – анемоны, белые и желтые, величиною с блюдце. А лилии! А «водосборы» – голубые с белым! И целые поля цветущих рододендронов – кремовых, розовых! А сколько вовсе мне незнакомых – один другого красивей!
Но не только цветы встречала я там; встретилась я… с группой туристов. Первый раз повстречалась я с ними возле Архыза: они уже ехали на машине в сторону Заповедника (сорок километров на машине, затем – еще тридцать километров их рюкзаки везли на лошадях, и лишь затем – пешком), а я – еще шла на гору Софию. И, несмотря на такую «фору», я очутилась впереди… хотя они идут быстро, а я – нет. Я-то понимаю, что в этом чуда нет: я не разбиваю лагеря, не собираю палаток и пищи не варю. Словом – полнее использую время. Но «туристам» это показалось «чудом», они обалдели от удивления и… трижды прокричали: «…туристу-одиночке – привет!»
Но вот и путешествие мое подошло к концу. Последний перевал – Псеашхо, Медвежьи Ворота – и бесконечно-длинный – восемнадцать километров – спуск к Красной Поляне.
Все было бы замечательно, если б не «ложка дегтя», испортившая всю «бочку меда». Вот крутая тропа переходит в дорогу-серпантин; у дороги – столб с надписью: «Северо-Кавказский Заповедник. Воспрещается: рубить лес и портить молодняк, охотиться, пасти скот, собирать ягоды, грибы и цветы, разрушать норы и разорять птичьи гнезда…», и тут же трелевочная машина с грохотом тащим огромный ствол дерева, выворачивая попутно молодые деревца и вообще весь грунт до «материковой» скалы. Дальше – уже вырубленная делянка, где гниют слишком толстые стволы, которые не сочли нужным использовать.
Чем дальше я шла – тем чаще встречались столбы с надписями, что в «Заповеднике» то-то и то-то запрещено… и тем больше разрушений я наблюдала.
Пошел дождь, и я зашла под навес – кухню лесорубов. Разговорились. Я спросила, отчего они в воскресенье работают? «Мы сами торопимся покончить с этим лесом… Вот проложат дорогу на Майкоп через заповедник – там нам будет работа…» И мне стало вполне ясно то, что я, впрочем, и так знала: «Заповедник» оттого лишь существует, что, по причине недоступности, просто «руки не доходят», чтобы его уничтожить: ведь куда мы проложили дороги – вместо культуры проникают жадность и варварство. Это – какое-то дикое стремление уничтожать.
В восьми километрах от Красной Поляны есть поселок «Рудник» (никакого «рудника» там нет; просто был лагерь з/к – «остов» его и теперь виден – а теперь – «деревообрабатывающая промышленность»… хотя это – еще территория заповедника) – выпить молока и слышала такой разговор: «…там, за гривой, я свалил семьсот кубов; какое мне дело, что их не вывезут? Заплатили мне сполна…»
Ну, вот и все. Из Адлера, выкупавшись в море (хотя была гроза со штормом), я на самолете за сорок пять минут была в Минводах. Теперь – дома. Воюю… с абрикосами: их ужасно много, и они нынче очень крупные, сладкие и душистые… а все мои друзья (возраст которых «от трех до пяти… плюс семьдесят лет) порасклеились – никто не приехал на фруктовый сезон, и я осталась «на растерзание» абрикосам, которые раздаю и не успеваю раздать всем знакомым и даже незнакомым. (И это письмецо написала ночью, варя повидло)
Привет Леониду Андреевичу.
Servus!
Е.К.
Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
27 ноября 1965 г.
Дорогая Лидия Эразмовна!
Получив Ваше письмо, обычно я «выдерживаю некоторую паузу», прежде чем писать ответ – многое надо «переварить», многое – обдумать, но, в данном случае, надо поторапливаться, так как Вы – того и гляди – отчалите в неизвестном направлении, хотя рано или поздно попадете в Кисловодск (откуда до Ессентуков – рукой подать), но трудно угадать, когда это будет?.. А поэтому – пишу без лишней траты времени.
Начну с того, что «развожу руками»: угораздило же Вас на ровном месте ломать ногу! Приходит на память Дюмон д’Юрвилль: кругосветные плавания, войны, восемь кораблекрушений… и погиб в железнодорожной катастрофе! Однако – бывает…
Пейте хлористый кальций, ешьте побольше витаминов, делайте массаж, гимнастику – и кость будет еще крепче, чем была.
Приятно знать, что Леонид Андреевич хорошо себя чувствует; что Вы оба довольны своей квартирой; что успешно занимаетесь фотографией и торопитесь запечатлеть «красоты» Норильска прежде, чем они будут превращены в «производства» с их отталкивающей «романтикой» подъемных кранов и лозунгов. Должна, однако, признаться, что, хотя и не отрицаю красоту Крайнего Севера, но… не могу избавиться от чувства досады при мысли о том, что дереву, чтобы достичь толщины руки, надо расти сто-двести лет, что красивый цветок лишь на прошлой неделе пробился из-под снега… а через несколько дней его уже не будет. Все прижато к земле – холодной, убогой, нищей – и надо всем – плоское небо, лишенное яркости, теплоты… Это – красиво… красотой чахоточной швеи, через силу зарабатывающей свой хлеб. Не скажу, что мне нравится «роскошь» – вся эта южная «экзотика», отдающая пресыщением и ленью. Но я люблю жизнь крепкую, бодрую, здоровую: деревья в два-три обхвата, горы – снизу доверху покрытые растительностью, разнообразной, доходящей до самого снега; люблю мягкую, душистую траву, растущую не спеша… люблю, когда всюду кипит жизнь, которой не приходится урывать короткие мгновения, прежде чем смерть в образе пурги задушить всю жизнь своим саваном; люблю, когда каждый день имеет свою утреннюю и вечернюю зарю, когда теплой ночью светят звезды. И… не терплю комаров. Они для меня портят даже ту «северную красоту», которая мне импонирует: уж что ни говори, а тайгу я основательно обмеряла своими ногами – от Нарыма до Алтая – и видела там действительно красивые места. Без малейшего намека на чахотку! Но комары… Будь они прокляты, паскудные твари!
Вы правы, что мне следует заняться фотографией. И у меня неплохой аппарат «Зенит З», но… Смотрю на него, как баран в Библию: ничего сообразить не могу! Нащелкала «наобум Лазаря» две пленки. Знакомая – Ольховская – увезла их в Москву и, должно быть, испортила, так как ничего мне не прислала.
Ну, а пока что живу… Хотя все никак не могу «сесть в седло». Хандрю, грущу. Вожусь с цветами, садами – копаюсь в земле – это немного развлекает, хотя… Одной мысли, что не сегодня-завтра меня выставят и все мои труды пойдут псу под хвост – достаточно, чтобы отравить всякую радость.
Однако хуже всего – это здоровье. Разумеется, мне пятьдесят восемь лет. Но беда – не годы, а сердце, которое совсем барахло: сердечного толчка вообще не прослушаешь, а пульс аритмичен – то частит, то останавливается. Необходимо похудеть – это бы разгрузило сердце, но… ничего не получается. Соблюдаю свирепую диету: ни хлеба (одна булка черного – на восемь-десять дней), ни сахара, ни картофеля, ни жиров; творог, кефир, сыр, отварное мясо, рыба, овощи. Ем, правда, фрукты. И все – мало помогает. Пример: десять дней шагала по горам, впроголодь. В Адлере взвесилась: потеряла… 140 грамм! Даже – не полфунта!
А тут еще гости оказывают «медвежью услугу» – «без вас есть не будем!» А чуть нарушу диету – сразу несколько килограмм прибавлю. И – опять одышка, отеки и так далее.
Ну – черт с ним, со здоровьем! Если уж помочь нельзя, то горевать не стоит. Я – одна. И огорчаться – некому… Пожалуй – это плохо. Вот Вы ворчите, что «…дети, мол, письма не пишут…» Я знаю, что все родители (теперешние, разумеется) жалуются на эту нелюбовь детей к писанью писем. Обычно я в этом виню родителей: сами они с детьми никогда не беседовали «по душам»; сами приучали скрывать свои мысли; сами учили не доверять бумаге. Откуда же у детей может быть «вкус» к этому виду «искусства» (хоть в «кавычках», но все равно – искусство)? Но в данном случае я не понимаю: уж у Вас с сыном были не только родительские, но и товарищеские отношения! Впрочем, теперь и товарищам не пишут. Писать – «не модно»… как не модно… танцевать мазурку: «не модно» сказать легче, чем признаться в неумении. В танцах, положим, кроме уменья, надо еще и помещение; а в отношении писем, кроме уменья и желанья, нужно… время… и помещение. А ведь и правду сказать: ни того, ни другого обычно нет… и потребность общения при посредстве писем атрофируется, а затем – и вовсе отпадает… как хвост у головастика.
Вот видите: хотела написать совсем коротенькое письмо, а получилась опять «двуспальная простыня». И все же прежде чем закончить, хочу Вам посоветовать обязательно посмотреть в кино «Нюрнбергский процесс»… даже если для этого придется «шкандыбать» с костылем. Это – не «тот» процесс, а другой, имевший место в 1948 году. Речь обвинителя, речь защитника – каждая по-своему убедительна, так как и тот и другой уверены в своей правоте; прав и генерал, который смотрит в будущее, умышленно закрывая глаза на прошлое; прав судья, уверенный в том, что «…логичное – не всегда справедливо»… даже вдова генерала (Марлен Дитрих) права… Я сама выросла в семье юристов: может быть, поэтому умею ценить перекрестный допрос свидетелей. А, смотря на «ящик с ужасами» обвинителя, в памяти вставали некоторые «аналогии» до того осязаемые, что становилось жутко. Обязательно сходите!
Что касается чтения, то похвастать мне нечем… В нашей библиотеке приходится поглотить невероятное количество «жеваной соломы», пока набредешь на какое-нибудь «жемчужное зерно». В читальном зале, положим, можно прочесть кое-какие журналы, но… сам «зал» – ужасно неудобен: темно, тесно, неудобно и очень холодно.
Ну, теперь со спокойной совестью могу «закругляться», пожелав Вам с Леонидом Андреевичем всего самого лучшего.
До свидания!
Е. Керсновская.
P.S. Пишут ли Вам Евстафьевы? Пьерушка меня рассмешил на днях: когда покрышек к Волге в продаже не было (очередь – на два года), то он поручал мне их купить… «если будут»; случайно оказались четыре покрышки, но, когда я их собиралась купить, прислал телеграмму: «не покупайте!!!» Прав был Владимир Николаевич, когда говорил, что, когда Пьерушка что-либо хочет купить, то вынимает деньги, погладит их, погладит и… прячет обратно…
Е.К.