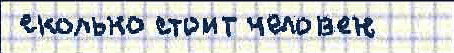29 января 2008 года. Библиотека-фонд "Русское Зарубежье", г. Москва
Стенограмма вечера
Ведущий вечера — Игорь Моисеевич Чапковский — хранитель наследия Е. А. Керсновской, человек, в семье которого она прожила последние годы.
Соведущий — Андрей Константинович Сорокин, генеральный директор издательства "Росспэн".
Игорь Моисеевич Чапковский: Зал для вечера в честь столетия Евфросинии Антоновны Керсновской предоставила Библиотека-фонд "Русское Зарубежье", и первое слово для приветствия — ее директору Виктору Александровичу Москвину.
Виктор Александрович Москвин: Я очень рад, что вечер, посвященный столь знаменательной дате, как столетие Евфросинии Керсновской, проходит здесь, в Доме "Русское Зарубежье", ибо наш Дом связан и с Русским Зарубежьем, и в целом связан с той катастрофой, которая обрушилась на Россию в двадцатом столетии. Самое активное участие в создании Дома принял Александр Исаевич Солженицын, и в значительной степени благодаря его помощи этот Дом и появился здесь, на Таганке, и в качестве первого дара Александра Исаевича были более двух тысяч мемуаров, которые он собрал, будучи в изгнании; потом, уже вернувшись в Россию, в ответ на два своих призыва к соотечественникам: сначала за рубежом, а потом вообще к русским людям — писать и присылать ему воспоминания, которые, по его мнению, должны составить Всероссийскую мемуарную библиотеку, как сгусток народной памяти о событиях двадцатого века. Вот эти мемуары хранятся здесь, они все описаны, они издаются, и темы в этих изданиях, в принципе, две: это русское зарубежье и ГУЛАГ. И сегодняшний наш вечер просто является частью той программы, которую осуществляет наш Дом: наше общество должно знать о том, что проходило в двадцатом столетии, о самых страшных, драматических страницах, которые пережила страна. Я очень признателен издательству "Росспэн" за книгу Керсновской, которую оно выпустило, потому что это книга удивительная, потрясающая. Она не просто прекрасно сделана издательством, она не только прекрасно напечатана, но она еще сделана с сердцем и с душой. И я поздравляю Вас, Андрей Константинович, с новым очередным успехом Вашего замечательного издательства. Я от имени Библиотеки, от имени ее учредителей благодарю всех, кто пришел на сегодняшний вечер, и благодарю организаторов вечера за то, что они сочли возможным и нужным провести его здесь, в Доме Русского Зарубежья.
 И. М. Чапковский: Всего двадцать лет назад, когда было восьмидесятилетие Евфросинии Антоновны, его отмечал очень узкий круг людей. Это несколько близких людей, которые тем не менее, конечно, представляли масштаб этой личности. Сейчас можно сказать, что "клуб почитателей Евфросинии Антоновны", или Фроси, как ее звали близкие, стал международным. У нас здесь есть люди из Республики Молдовы, которая сейчас даже границ не имеет с Россией, есть гости из Норильска, Ессентуков. Эти немолодые люди предприняли такое вот тяжелое, порой многотысячекилометровое путешествие, чтобы почтить Евфросинию Антоновну. Радостно смотреть на зал, который уже не всех вмещает, стоят люди, хотя, возможно, есть места — можно садиться. И вот надо сказать, что Евфросиния Антоновна совершила добровольное путешествие в ГУЛАГ — в место, в котором погибли миллионы невинных людей. Миллионы погибли, миллионы вышли. Но из миллионов вышедших было немного тех, кто сохранил себя духовно. Прежде всего, ГУЛАГ посягает на память человека, на его восприятие, большинство отворачивается и делает вид, что его нет. Когда люди прошли ГУЛАГ и сохранили себя физически, то их давит их духовно, пытается лишить их памяти. Я считаю, что ГУЛАГ — это явление мировой истории. В середине шестнадцатого века испанцы уничтожали голландцев. Голландия была их колонией. И в какой-то момент этой сорокалетней борьбы они издали указ, что все голландцы виновны и подлежат сожжению. Тех, кто остались живы, называли "недосожженные". Об этом через триста лет Шарль де Костер написал произведение "Легенда об Уленшпигеле", в котором дал блестящее, на мой взгляд, определение памяти. Тиль говорит о своем сожженном отце: "Пепел Клааса стучит в моё сердце". Он определил память как стук в сердце.
И. М. Чапковский: Всего двадцать лет назад, когда было восьмидесятилетие Евфросинии Антоновны, его отмечал очень узкий круг людей. Это несколько близких людей, которые тем не менее, конечно, представляли масштаб этой личности. Сейчас можно сказать, что "клуб почитателей Евфросинии Антоновны", или Фроси, как ее звали близкие, стал международным. У нас здесь есть люди из Республики Молдовы, которая сейчас даже границ не имеет с Россией, есть гости из Норильска, Ессентуков. Эти немолодые люди предприняли такое вот тяжелое, порой многотысячекилометровое путешествие, чтобы почтить Евфросинию Антоновну. Радостно смотреть на зал, который уже не всех вмещает, стоят люди, хотя, возможно, есть места — можно садиться. И вот надо сказать, что Евфросиния Антоновна совершила добровольное путешествие в ГУЛАГ — в место, в котором погибли миллионы невинных людей. Миллионы погибли, миллионы вышли. Но из миллионов вышедших было немного тех, кто сохранил себя духовно. Прежде всего, ГУЛАГ посягает на память человека, на его восприятие, большинство отворачивается и делает вид, что его нет. Когда люди прошли ГУЛАГ и сохранили себя физически, то их давит их духовно, пытается лишить их памяти. Я считаю, что ГУЛАГ — это явление мировой истории. В середине шестнадцатого века испанцы уничтожали голландцев. Голландия была их колонией. И в какой-то момент этой сорокалетней борьбы они издали указ, что все голландцы виновны и подлежат сожжению. Тех, кто остались живы, называли "недосожженные". Об этом через триста лет Шарль де Костер написал произведение "Легенда об Уленшпигеле", в котором дал блестящее, на мой взгляд, определение памяти. Тиль говорит о своем сожженном отце: "Пепел Клааса стучит в моё сердце". Он определил память как стук в сердце.
Так что стучало в сердце Евфросинии, когда она писала свои воспоминания? Она сама об этом сказала — в её сердце стучала любовь, любовь к матери, и её — не сочинение, — её свидетельство — это рассказ любимой матери о том, что было в разлуке с любимым человеком. Она не решает социальной задачи, она, движимая этой любовью, отвечает маме. Маме умершей, надо сказать, отвечает, что с нею было, когда они расстались. И вот эта любовь к маме, которая доступна любому из нас, эта любовь у Евфросинии — совершенная. Любовь изгоняет из сердца страх, и тогда она создает вот это произведение, о котором одна читательница говорит: "Вас читаешь — и хочется жить". Эта любовь преодолевает подавление личности, и Евфросиния Антоновна создает то, что, я думаю, практически все участники этой встречи знают, — вот это свое выдающееся произведение о нечеловеческих страданиях, читая о которых, хочется жить.
Семья Керсновских особенная: брат Евфросинии Антон стал известным военным историком в Русском Зарубежье и написал — единственный — историю Русской Армии, как никто из других историков не написал. Умер молодым. У него была семья, но детей не осталось. Евфросинию Антоновну мы, её близкие и друзья, хоронили в белых одеждах: она была "невеста Христова", как она о себе говорила. Родилась и жила Евфросиния Антоновна до 1919 года в Одессе. И вот эта выдающаяся семья после того, как им пришлось покинуть Россию, жила близ города Сороки. Что это было за место, об этом я попрошу рассказать Аурела Елисеевича Маринчука, уроженца тех мест, который является сейчас доцентом политехнического института, был деканом, основателем двух факультетов.

Аурел Елисеевич Маринчук: Многоуважаемые почитатели моей землячки и её творчества! В конце первого тома "Архипелага ГУЛАГ" у Александра Солженицына есть такой пассаж, что в городе нет дома, откуда кого-нибудь не взяли бы, а около тюрьмы — телеги с плачущими бабами, как у Сурикова на картине "Утро стрелецкой казни". Ах, где тот художник, который нам бы все это нарисовал? Так вот, она — тот самый художник, о котором мечтал бывший заключенный Александр Солженицын.
Город Сороки, Бессарабия, семидесятые годы девятнадцатого столетия. Молодые помещики, которые заканчивали университеты кто в Гейдельберге, кто в Варшаве, кто в Париже, кто в Берлине, появились в жизни города Сороки. Как раз создавалось земство, и они создали лучшее земство в губернии. Они решили что-то сделать для нашего города. В результате накануне революции в далеком, дремучем месте был город Сороки, где были пять средних классических заведений: женская гимназия (где преподавала мама Евфросинии Антоновны — Александра Алексеевна Керсновская), технический лицей, где учились все сыновья Бориса Керсновского. Далее, был классический лицей, где располагалась военная прокуратура, между прочим, школа искусств и ремесел, учительская семинария. И была некоторая критическая масса интеллектуалов: пятьдесят-семьдесят гимназических профессоров — это уже интеллектуальное общество, где обсуждаются проблемы, и это передавалось всем, всей молодежи. Лицеисты того времени выходили из учебных заведений зрелыми. Большую роль играла эмиграция из России и с Украины. В 1918 году граница с Россией захлопнулась, но тем не менее люди как-то просачивались, и интеллектуалы высокой пробы осели в городе Сороки, который граничил тогда с СССР, и также способствовали тому, что там создалась высокоинтеллектуальная атмосфера.
Воспоминания Керсновской, опубликованные в журнале "Знамя" в 1990-е годы, я прочел, будучи на работе в Африке, и они очень сильно на меня подействовали: там вообще любую квитанцию с родины читаешь трижды, потому что это весть с родины, а тем более эта книга, которая напоминает места, где знакомое озеро, знакомая тропинка, где знакомые учителя, учительницы, которые учили мою маму, там упоминается Елена Георгиевна Смолинская, которая в 1950-е годы сообщила Керсновской, что ее мама жива... В девятом классе наш завуч заболел, и она, старушка, еще что-то нам преподавала. Я нашел фотографию, где Смолинская была еще гимназисткой. Такие люди — это цвет города. Она говорила на равных с любым интеллектуалом, абсолютно в любом обществе, и с цыганом она говорила, и сразу контакт был, как будто она говорит с большим приятелем.
Поместье Керсновских было южнее Сорок, оно примыкало к деревне Цепилово, нынче деревня Околина поглотила всё это место. Мы с Дашей Чапковской и с Галиной Атмашкиной года два тому назад путешествовали по тем местам, встречались с людьми, с которыми Керсновскую этапировали в Сибирь в одном вагоне, с учительницами, которые, хотя их не высылали, но они многое помнят о тех временах. Это очень интересно. Керсновская вошла в мировую историю, но особенно — в историю нашего города Сороки. Теоретически, все её творения могли бы и потеряться и не вышли бы на широкую публику. Небольшое количество людей — среди них господин Чапковский с членами своей семьи, который сохранил это, Галина, которая наизусть знает всё, господин Сорокин, который издал книгу, господин Пасат — он в одной из своих книг упоминает ее еще раньше, но сейчас он энергично взялся за это дело. Теперь этот корабль пущен, и пусть он работает хорошо, на воспитание молодёжи.
И.М. Чапковский. Забыл сказать, что мы хотим, чтобы весь этот вечер, разными, так сказать, гранями как-то соответствовал Евфросинии Антоновне. Она писала и говорила афористично, лаконично, кратко и, что самое важное, конечно, интересно. Я прошу всех двигаться в этом направлении, и мы, конечно, не хотим утомить зал, поэтому выступающих я прошу укладываться в регламент — примерно пять минут. Итак: Сороки, на мой взгляд, действительно было интеллектуальным, а главное — свободным местом в Российской империи, к которой Бессарабия принадлежала до 1918 года, в ней никогда не было рабства, которое историки изящно называют крепостным правом. Это одна из причин, почему и сейчас, как я вижу, в этой маленькой стране есть историческая память, ну, конечно, и советской власти там было на двадцать с лишним лет меньше, чем в других местах. Итак, Евфросиния Антоновна из этого прекрасного места, после того как в 1940 году советские войска вошли в Бессарабию и присоединили ее к СССР, с тысячами других депортированных в 1941 году увезена была в Сибирь. И что с ней происходило в Сибири дальше, мы знаем из её произведения. Свидетелей тех времен здесь у нас нет, но она потом попадает в Норильск, и вот здесь есть люди, которые могут рассказать нам о том, что такое для Норильска Евфросиния Антоновна и как её воспринимал город. Я попрошу об этом рассказать Владимира Леонидовича Ройтера, который после войны учился в школе в Норильске.
 Владимир Леонидович Ройтер. В нашей семье имя Евфросинии Антоновны всегда занимало большое место. Отец у меня был репрессирован в 1937 году, после многочисленных мытарств по тюрьмам и пересылкам попал в Дудинку сначала, на общие работы, а оттуда больным был доставлен в Норильск. Был он уже в то время крупным специалистом-строителем. Норильск был для таких людей в некотором роде счастливым местом, потому что промышленность и городское строительство требовали не только рабочей силы, но и кадров очень высокой квалификации, творческого подхода и так далее. Для этих людей, прошедших тюрьмы, пытки, была избавлением сама возможность как-то проявить свои способности, силы, свои умения на практике. Отец был фанат техники, любил своё дело, и это для него было, конечно, счастье, что он попал в Норильск, хотя до этого прошел он все круги страданий, как и многие другие. В начале 1950 года мы с мамой (отец в то время освободился, у него окончен был срок и было еще поражение в правах) прибыли в Норильск. Я в то время учился в седьмом классе. И вот в Норильске буквально в первые годы соприкоснулся я с Евфросинией Антоновной. Каким образом? Ну, первое: как-то отец, придя домой, принес рукописную книжку, такую тетрадку с рисунками. Она была поперек разрезана на три части и нарисованы человеческие фигуры. Насколько я знаю, такая тетрадь или подобная тетрадь сейчас имеется в архиве Керсновской. Она была сделана так интересно — двенадцать страниц всего, но сочетаний получалось большое количество, потому что на верхней части было лицо, на средней — торс, и на нижней — ноги. Лагерные типы. Они в любом сочетании смотрелись как законченные портреты. Я тогда это не связывал с именем Евфросинии Антоновны, может быть, оно и не называлось даже, и тем не менее в памяти это осталось. Второй момент: рассказы, которые ходили. Норильск был город небольшой, тем более если говорить о вольнонаемных, так вот, ходили рассказы о некоей женщине, которая в шахте дала отпор какому-то высокому начальству, вплоть до того, что чуть ли не съездила по физиономии за сквернословие или за какое-то оскорбление. Такой поступок был совершенно немыслим в то время, и это воспринималось, как некая легенда. Но я помню эти рассказы. Лично я был знаком с одним из сослуживцев Евфросинии Антоновны Дмоховским Владимиром Николаевичем — я у него брал уроки русского языка. Он в то время освободился, и с их семьей мои родители дружили. Потом я закончил школу, институт в Москве, женился, жили мы в Москве. В письмах родители упоминали про некую Фросю, с которой мама очень дружила, кстати сказать. И она с восторгом, иногда с иронией, рассказывала о её чудачествах, о её совершенно незаурядных поступках и поведении. Однажды в нашей квартире (жили мы тогда в Люблино) раздался звонок, и на пороге оказалась женщина — вот примерно как она здесь изображена, на ее портрете в рост, только у нее шаровары были опущены донизу и черный берет на голове. Я уже знал к тому времени о существовании некоей Фроси, она представилась. Она думала, что моя мама находится здесь, и поэтому надеялась её тут застать, но ошиблась. На приглашение в дом она отказалась идти, распрощалась, узнав, что мамы нет, и это была моя единственная личная встреча с ней.
Владимир Леонидович Ройтер. В нашей семье имя Евфросинии Антоновны всегда занимало большое место. Отец у меня был репрессирован в 1937 году, после многочисленных мытарств по тюрьмам и пересылкам попал в Дудинку сначала, на общие работы, а оттуда больным был доставлен в Норильск. Был он уже в то время крупным специалистом-строителем. Норильск был для таких людей в некотором роде счастливым местом, потому что промышленность и городское строительство требовали не только рабочей силы, но и кадров очень высокой квалификации, творческого подхода и так далее. Для этих людей, прошедших тюрьмы, пытки, была избавлением сама возможность как-то проявить свои способности, силы, свои умения на практике. Отец был фанат техники, любил своё дело, и это для него было, конечно, счастье, что он попал в Норильск, хотя до этого прошел он все круги страданий, как и многие другие. В начале 1950 года мы с мамой (отец в то время освободился, у него окончен был срок и было еще поражение в правах) прибыли в Норильск. Я в то время учился в седьмом классе. И вот в Норильске буквально в первые годы соприкоснулся я с Евфросинией Антоновной. Каким образом? Ну, первое: как-то отец, придя домой, принес рукописную книжку, такую тетрадку с рисунками. Она была поперек разрезана на три части и нарисованы человеческие фигуры. Насколько я знаю, такая тетрадь или подобная тетрадь сейчас имеется в архиве Керсновской. Она была сделана так интересно — двенадцать страниц всего, но сочетаний получалось большое количество, потому что на верхней части было лицо, на средней — торс, и на нижней — ноги. Лагерные типы. Они в любом сочетании смотрелись как законченные портреты. Я тогда это не связывал с именем Евфросинии Антоновны, может быть, оно и не называлось даже, и тем не менее в памяти это осталось. Второй момент: рассказы, которые ходили. Норильск был город небольшой, тем более если говорить о вольнонаемных, так вот, ходили рассказы о некоей женщине, которая в шахте дала отпор какому-то высокому начальству, вплоть до того, что чуть ли не съездила по физиономии за сквернословие или за какое-то оскорбление. Такой поступок был совершенно немыслим в то время, и это воспринималось, как некая легенда. Но я помню эти рассказы. Лично я был знаком с одним из сослуживцев Евфросинии Антоновны Дмоховским Владимиром Николаевичем — я у него брал уроки русского языка. Он в то время освободился, и с их семьей мои родители дружили. Потом я закончил школу, институт в Москве, женился, жили мы в Москве. В письмах родители упоминали про некую Фросю, с которой мама очень дружила, кстати сказать. И она с восторгом, иногда с иронией, рассказывала о её чудачествах, о её совершенно незаурядных поступках и поведении. Однажды в нашей квартире (жили мы тогда в Люблино) раздался звонок, и на пороге оказалась женщина — вот примерно как она здесь изображена, на ее портрете в рост, только у нее шаровары были опущены донизу и черный берет на голове. Я уже знал к тому времени о существовании некоей Фроси, она представилась. Она думала, что моя мама находится здесь, и поэтому надеялась её тут застать, но ошиблась. На приглашение в дом она отказалась идти, распрощалась, узнав, что мамы нет, и это была моя единственная личная встреча с ней.
Впоследствии я много слышал о ней от моих родителей. После того, как она переехала в Ессентуки, мои родители бывали многократно у неё, там рядом в Пятигорске жила семья Мовсесянов, которых они тоже навещали, и я практически всё, что написано в тетрадях, конспективно уже знал к тому моменту, хотя тетрадей еще не видел. Потом я узнал о существовании некоей тетради, а потом как-то меня попросили принять участие в цепочке передачи этих тетрадей от Евфросинии Антоновны к людям, которые их решили выпустить в самиздате. Я получал тетради у одного знакомого, привозил по указанному адресу в другое место, а оттуда — обратно, и так далее. Это было где-то начало 1980-х годов. И тут-то я их прочитал. Конечно, бегло, потому что времени было очень мало для этого. Мне кажется — всё, что я прочитал, я уже знал. Меня они совершенно потрясли. И сейчас, перечитывая изданное печатным образом, я не перестаю удивляться тому, что там написано. Это свидетельство бесценное. Причем я должен сказать, что, хотя я Керсновскую практически не знал, я совершенно уверен, что это чистая правда, настоящая правда. Там могут быть ошибки в смысле дат, некоторых имён и так далее, но всё соответствует тем знаниям, тем впечатлениям, тем деталям и рассказам очевидцев, которые я знаю. В этом смысле это ценный исторический документ. Мне кажется, заслуживает величайшей оценки тот труд, который предприняли люди по сохранению и, теперь уж можно сказать, увековечению памяти Евфросинии Антоновны. Издание книги — это, конечно, венец всего. Но всё, что было до этого, вот эта тонкая ниточка, которая не позволила затеряться этим произведениям, которую поддерживали энтузиасты, не вполне это в то время было безопасно, но тем не менее они это сделали. Честь им и хвала за это. Надо всем сказать спасибо.
И.М. Чапковский: Еще из Норильска очень тяжелую поездку (сутки человек добирался), и я считаю, что вот это преодоление трудностей доказывает искренность желания почтить Евфросинию Антоновну, предприняла Светлана Георгиевна Слесарева, директор музея истории Норильского промышленного района. Я попросил бы ее сказать, а как Норильск сейчас видит Евфросинию Антоновну? Пожалуйста.
 Светлана Георгиевна Слесарева: Добрый вечер. Я очень рада, что стала участником этого события. Надо сказать, что Норильлаг был местом заключения очень многих талантливых и известных людей. Наверное, вы об этом знаете. Но почему-то мы наиболее часто обращаемся к имени Евфросинии Антоновны Керсновской. Наверное, потому, что она — какой-то пример уникального таланта, необычайной силы духа, веры, безмерной души и человеколюбия. И когда мы рассказываем об этом в музее, на выставках или вечерах, то это всегда имеет очень большой резонанс. В конце 1990-х годов мы стали сотрудничать и общаться с фондом сохранения наследия Евфросинии Антоновны Керсновской, с Игорем Моисеевичем Чапковским и его соратниками. Я очень благодарна судьбе, что такая встреча случилась, и это сотрудничество продолжается по сию пору. Надо сказать, что в 2000 году мы делали совместный выставочный проект в нашем музее, и Дарья Чапковская была нашей гостьей и автором выставки "Живопись и графика Евфросинии Керсновской". До сих пор в Норильске вспоминают эту выставку. Ну а мы тоже не так давно сделали выставку, которая называлась "Яблоки Евфросинии", наверное, потому, что это символ доброты Евфросинии Антоновны. Вы, конечно, все прекрасно знаете о том, что она в Ессентуках вырастила небольшой яблоневый сад и, собирая урожай, укладывала яблоки в ящик, выносила их в людное место и оставляла там с запиской "Берите даром". Это, наверное, и призыв ко всем нам: быть добрыми в любых обстоятельствах и постоянно. Быть добрыми друг к другу. И еще, самое главное, наверное, что, оставаясь заключенной, находясь в несвободе, Евфросиния Антоновна (я просто такого примера не припомню) всегда оставалась свободным человеком. И это, конечно, случай и судьба, которые потрясают.
Светлана Георгиевна Слесарева: Добрый вечер. Я очень рада, что стала участником этого события. Надо сказать, что Норильлаг был местом заключения очень многих талантливых и известных людей. Наверное, вы об этом знаете. Но почему-то мы наиболее часто обращаемся к имени Евфросинии Антоновны Керсновской. Наверное, потому, что она — какой-то пример уникального таланта, необычайной силы духа, веры, безмерной души и человеколюбия. И когда мы рассказываем об этом в музее, на выставках или вечерах, то это всегда имеет очень большой резонанс. В конце 1990-х годов мы стали сотрудничать и общаться с фондом сохранения наследия Евфросинии Антоновны Керсновской, с Игорем Моисеевичем Чапковским и его соратниками. Я очень благодарна судьбе, что такая встреча случилась, и это сотрудничество продолжается по сию пору. Надо сказать, что в 2000 году мы делали совместный выставочный проект в нашем музее, и Дарья Чапковская была нашей гостьей и автором выставки "Живопись и графика Евфросинии Керсновской". До сих пор в Норильске вспоминают эту выставку. Ну а мы тоже не так давно сделали выставку, которая называлась "Яблоки Евфросинии", наверное, потому, что это символ доброты Евфросинии Антоновны. Вы, конечно, все прекрасно знаете о том, что она в Ессентуках вырастила небольшой яблоневый сад и, собирая урожай, укладывала яблоки в ящик, выносила их в людное место и оставляла там с запиской "Берите даром". Это, наверное, и призыв ко всем нам: быть добрыми в любых обстоятельствах и постоянно. Быть добрыми друг к другу. И еще, самое главное, наверное, что, оставаясь заключенной, находясь в несвободе, Евфросиния Антоновна (я просто такого примера не припомню) всегда оставалась свободным человеком. И это, конечно, случай и судьба, которые потрясают.
Здесь у меня буклеты наши музейные, пожалуйста, берите.
И.М. Чапковский: Евфросиния Антоновна закончила свой срок, была выпущена на свободу. В произведении "Сколько стоит человек" она ответила на этот вопрос: "Человек стоит столько, сколько стоит его слово". В момент, когда она выходила, было сделано обычное гулаговское предложение: дать расписку, что она не будет вспоминать о том, что с ней было. Все подписывают — дальше делай, как хочешь, но она сказала: "Нет. Человек стоит столько, сколько его слово". "Ну тогда оставайся в зоне!" Ее ненадолго задерживают и отпускают так. Она остается в Норильске, дорабатывает в шахте взрывником и бурильщиком уже как вольнонаемная, в 1957 году в отпуске она встречается со своей мамой, через 18 лет разлуки. После того, как она зарабатывает пенсию, она получает "минус тридцать девять", то есть тридцать девять городов, в которых она не может селиться, и выбирает Ессентуки, которые в эти "минус тридцать девять" не входят, и еще едет она туда потому, что там жила сестра Веры Ивановны Грязневой, заведующей лагерной больницей, которой она симпатизировала, — Альбина Ивановна Грязнева, и по этому выбору она попадает в Ессентуки. И здесь она покупает половину дома и половину участка, а на другой половине жили ее соседи, один из которых здесь находится. Он много часов провел в беседах с Евфросинией Антоновной, и какое это впечатление на него произвело, он нам расскажет. Я хочу пригласить к микрофону школьного преподавателя русского языка и литературы Василия Петровича Губанова.
Василий Петрович Губанов: Мне много лет — мне восемьдесят. С Евфросинией Антоновной пришлось мне встречаться в Ессентуках, начиная с 1960-х годов, когда она поселилась с нами по соседству, и вот я не помню, чтобы я когда-нибудь унывал с ней в беседах; это был удивительно веселый человек, заряженный оптимизмом, и я всегда не мог наговориться с этим человеком и ждал, когда снова будет явление. Она ходила в такой одежде (показывает на фотографию Керсновской), как Вы говорили (В. Ройтеру), брюки длиннее немного, но вот эти кеды — те, кто постарше, они помнят эти кеды, сейчас их не выпускают, — она всегда в них ходила. Я не помню, чтобы она когда-нибудь праздно проводила время — этого никогда не было. Мой старший сын Коля — он был влюблен в бабушку Фросю, Евфросинией Антоновной её называл — с ней ходил в кино, на озеро. Когда я приехал, она повела и его, и меня на озеро. Я очень хорошо плаваю (то есть могу много километров проплыть, в море уходить, чтобы скрывались берега), но, чтобы сына учить — там, где я жил, не было воды близко, и сына я плавать не научил; так Евфросиния Антоновна научила его плавать здесь, на наших озерах в Ессентуках. И когда приезжали люди (к ней много людей приезжало, не все сразу, но приезжали), она всем нравилась, она ко всем находила подход — тот, который был нужен. Да нет, она и не искала подход — мы все в нее влюблялись; сказать, что она искала к нам подход, не будет правильным.
Она очень любила поэзию, например, стихотворение Аполлона Майского "Емшан" о хане (благодаря ей я помню это большое стихотворение, можно его поэмой назвать): он ушел со своей земли, откуда его прогнал Мономах, и вот, когда умер Мономах, старший брат посылает певца к своему младшему брату, который стал владыкой Кавказа:
"Ему ты песен наших спой, -
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему — и он вернется".
И взял пучок травы степной
Тогда певец, и подал хану -
И смотрит хан — и, сам не свой,
Как бы почуя в сердце рану,
За грудь схватился... Все глядят:
Он — грозный хан, что ж это значит?
Он, пред которым все дрожат,-
Пучок травы целуя, плачет!
И вдруг, взмахнувши кулаком:
"Не царь я больше вам отныне! -
Воскликнул. — Смерть в краю родном
Милей, чем слава на чужбине!"
Эти строки (я их полюбил, из-за этого и стихотворение выучил) она повторяла часто.
Что еще рассказать... Как учитель, я не был материально обеспечен. Евфросиния Антоновна взяла и подарила моему сыну велосипед. Мальчик посмотрел, послушал ее — никогда до этого не садился на велосипед, но она имела такое слово, она могла так убедить человека — он мгновенно поехал. Позже она пошла с ним через Кавказский хребет. Ему было порядка девяти-десяти лет. Перейти через Кавказский хребет! (Я сам с ними ходил с удовольствием, у меня был разряд по туризму но это без меня она его повела, но я очень благодарен ей.)
О любых вещах я мог с ней поговорить. Они возникали сами. Уходить от нее не хотелось. Ну, например, такая вещь: верил Лермонтов в Бога или нет? И вот я говорю: "Мне кажется, что он верил", — и читаю стихотворение. Второй куплет — у меня заминка, думаю, дай пропущу, не может же она помнить... "...В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них..." Она дала мне до конца дочитать, а второй куплет прочла: "Вы, — говорит, — его пропустили".
Говорили с ней о Боге. Нас в школе учили тому, что Иисус Христос выдуман, а когда я ей это сказал, она говорит: "Я не могу всего утверждать, но это личность историческая, и Понтий Пилат существовал, и он говорил о беседе с ним. Это историческая личность". Извините, время у меня вышло...
И.М. Чапковский: ...Так вот, в Ессентуках Евфросиния Антоновна живет три года с мамой, и потом, как она пишет: "Смерть вырвала у меня из рук мою старушку". Потеря эта была тяжелейшая, видимо, она не понимала, почему мама так неожиданно ушла. Глядя со стороны на ее судьбу, можно сказать, что иначе она бы не смогла написать своих воспоминаний, настолько у Евфросинии с ее мамой была самодостаточная и полная жизнь. И вот она пишет свое произведение, пишет его в двух экземплярах, понимая, что ГУЛАГ не хочет, чтобы о нем знали. Ищет людей, которым она могла бы это передать: Владимир Леонидович Ройтер уже этот вопрос затронул, что она нашла людей в Москве, в том числе и меня, и встал вопрос, надо что-то делать, как-то хотя бы сохранить текст. Итак, проблема хранения перешла (не постепенно, а сразу же) в проблему издания: появилось четыре машинописных экземпляра этого текста, на обороте первого экземпляра самиздатовской машинописи Евфросиния Антоновна опять нарисовала свои рисунки, то есть вот это её уникальное произведение, а уникальность его в том, что оно словесно-художественное, стало уже находиться в каком-то количестве экземпляров. Наступила перестройка, и Евфросиния Антоновна дала согласие на публикацию. "Огонёк" опубликовал очерк о ней и часть ее рисунков. Вот тогда она из человека, которого любили так, как рассказал Василий Петрович Губанов, стала человеком известным. Журнал "Огонек" издавался тиражом 4,5 миллиона экземпляров, журнал "Знамя" (где был помещена первая треть текста без рисунков) выходил миллионным тиражом: она стала известной. Удалось издать ее книгу "Наскальная живопись", в 1991 году выходит также перевод этого альбома на немецкий язык. Но историческое колесо повернулось в другую сторону, интерес к теме угас, а Евфросиния Антоновна сказала мне: "Я Вам доверяю. Я уверена, что Вы издадите это произведение". Я спросил: "А что ценно: текст или рисунки?" Она говорит: "Более ценен текст". — "А как его надо издать?" — "Издать его надо, как оно есть". Она говорила лаконично, точно и понятно: "Как оно есть". Изданиями я никогда не занимался, и вот передо мной стоит такая задача: полторы тысячи страниц текста, более семисот рисунков, заниматься этим никогда не занимался, интереса у издателей к этой теме нет. И что делать? Евфросиния Антоновна в 1994 году 8-го марта умирает. В апреле месяце выходит во Франции в издательстве PLON альбом "Coupable de rien" ("Невиновная ни в чем"), но это всё же фрагменты ее произведения, которые не дают представления о том, каково же оно в полноте.
Проходит время, и оно, это время, меня "клюёт": возраст, я же могу умереть и не выполнить обещания, и сделать ничего не могу, но мы делаем то, что можем: набираем, сканируем, готовим это трудное произведение к изданию. Мы — это я и, прежде всего, еще Галина Васильевна Атмашкина, редактор всех её изданий. С удивлением я обнаружил, что есть сила законной доверенности. Она сказала: "Я Вам доверяю". Я прихожу к издателям, они начинают меня слушаться, я имею в виду, в "Знамени", в "Огоньке" что-то начинает получаться. И, говоря современным языком, это "доверенность с передоверием", то есть у людей, которым я доверял, тоже появляются силы на то, чтобы издавать это произведение. В 2000 году мы своими усилиями издаем полный текст произведения в виде шеститомника, который многие из вас видели, и после этого — опять остановка, и мы не знаем, что делать. И тут (я по-другому не могу сказать) на помощь приходит... ГУЛАГ, который протягивает свои щупальца и затаскивает к себе историка ГУЛАГа Валерия Ивановича Пасата. Он — доктор исторических наук, он написал в 1994 году книгу о репрессиях в Молдове, и вот он в Молдове попадает в ГУЛАГ, то есть невинный человек попадает в тюрьму, в тяжелейшие условия. Его друзья думают: "Что можно сделать?" И вот приходит мысль в голову, что надо полностью отпечатать произведение Евфросинии Антоновны, с которым (с самим произведением) Валерий Иванович уже был знаком. И он становится руководителем проекта, находясь в тюрьме, пишет предисловие; пользуясь своими связями, достаёт документы, сопровождающие это издание. Находится издательство "Росспэн", у которого основная направленность — это восстановление памяти, издания по теме ГУЛАГа.
Андрей Константинович Сорокин, генеральный директор издательства "Росспэн", то есть "Российской Политической Энциклопедии", нашел меня, и мы договорились об этом издании. Оно было презентовано в ноябре 2006 года, и через две недели срок Владимира Ивановича Пасата был уменьшен с десяти лет до пяти, а еще через полгода он вышел на свободу. Можно думать, как связаны эти явления, искать эти закономерности, но факты во времени располагались так. Теперь более подробно о самом издании, о том, какое значение имеет это издание в современной историографии и как это всё издавалось, скажут люди, которые этим занимались. Я передаю микрофон Андрею Константиновичу Сорокину, генеральному директору издательства "Росспэн".
Андрей Константинович Сорокин: Игорь Моисеевич Чапковский сказал важные слова: "Евфросиния Антоновна писала эту книгу для своей матери", — а я бы вслед за ним добавил: она писала её, в конечном итоге, для нас с вами и для большого количества людей, которые еще очень долго будут перечитывать эту книгу. И я бы хотел, на самом деле, поговорить именно об этом, и наш сегодняшний вечер повернуть в русло разговора об общественной значимости того, что сделала Евфросиния Антоновна, о её гражданском подвиге и о подвигах тех людей, которые были с ней связаны, которые продолжили её дело, благодаря которым мы сегодня имеем возможность держать эту книгу. Евфросиния Антоновна Керсновская прошла через страшные испытания, она не сломалась, сохранила себя, донесла до нас правду о ГУЛАГе, о людях, которые там были, людях разных. И она многим из нас дала не только силы, но и возможность делать некоторые правильные и добрые дела и совершать гражданские поступки. Рядом со мной сидит человек, который себя не представил. Я думаю, что это надо сделать — далеко не все из присутствующих здесь знают, что Игорь Моисеевич Чапковский — руководитель фонда сохранения и наследия Евфросинии Антоновны Керсновской, человек, в семье которого Евфросиния Антоновна прожила последние годы и благодаря которому, его друзьям, соратникам, его семье, собственно, сохранен этот бесценный исторический источник, этот памятник человеческого духа. Именно благодаря их работе мы сегодня имеем возможность держать в руках эту книгу. И я точно знаю, точно понимаю, что гражданские поступки совершали те первые публикаторы отрывков из мемуаров Керсновской, еще в советское время, и в "Огоньке", и в "Знамени", и все последующие публикации, пусть частично и пусть недостаточно хорошо представлявшие её труд, тем не менее, требовали гражданского мужества, всё это имело и имеет по сегодняшний день большой смысл и большое значение. Эта работа и то, что с ней связано, — я, например, точно знаю — чрезвычайно актуально сегодня и, к великому сожалению, будет актуально еще в ближайшей исторической перспективе... Надо знать ту реальную историю, которая в действительности была, которая основана на документах, которая зафиксирована памятью людей, прошедших ГУЛАГ, и я бы об этом хотел подумать и поговорить вместе с вами. Я очень рад, что сегодня здесь, в этом зале, не только те, кто знали лично Евфросинию Антоновну, но и те люди, которые предметно занимаются, как профессионалы, той темой, о которой я здесь говорю. Я бы очень хотел, чтобы несколько слов сейчас сказал Арсений Борисович Рогинский, руководитель международного "Мемориала", организации, которая сделала и продолжает делать огромную работу в области по сохранению памяти и ведению исследований в этой области и которому, как я знаю, лично судьба Евфросинии Антоновны совершенно небезразлична, и я должен сказать, что его роль в продвижении вот этой большой книги в международное сообщество чрезвычайно велика, за что ему отдельное спасибо.
Арсений Борисович Рогинский: Я счастлив, что появилось наконец последнее издание, где текст и рисунки вместе. Это самое главное, невозможно было читать текст без рисунков. Я сегодня впервые услышал от Игоря Чапковского, что сама автор говорила, что текст важнее, но мне кажется, что не может быть что-то одно важнее другого: работает только всё вместе, и одно другое дополняет, и я не могу даже сказать, что иллюстрирует. Это вам скажут искусствоведы, как всё это устроено. В этом смысле это замечательная книга, это первое, что я хочу сказать. Второе: вот здесь, когда говорили о личности, всё время какие-то такие слова там мелькали: любовь там, еще что-то такое; я внимательно прочел эту книгу — она совершенно не благостная! В ней, вообще говоря, мягкости и благостности никакой нет. Жесткий, очень жесткий, очень крепкий какой-то человек. И для меня главное в этой книге — то, что эта книга о сопротивлении человека. Сопротивление — главная тема книги. Просмотрите, что там есть: много вы видели в мемуарах сюжетов, когда человек на допросе стулом <швыряет> в следователя? Много ли? Да единицы у нас есть, и, кстати, половину проверил — липа, а в этих воспоминаниях это совершенно правдивый сюжет. Если б только стулом в следователя! Знаете, есть такое выражение, и лагерники до сих пор так говорят: "В лагере самое главное — сохранить в себе человека", — ерунда! Для неё не это проблема — в себе сохранить человека, а она вот как стоит — и никакому, даже мельчайшему, унижению не может быть подвергнута. Острейшая реакция на унижение!
Понимаете, главное про лагерь — одно точно знаю — в лагере человек может быть голодный, холодный, избитый, какой угодно, но человек не может быть униженным. Эта вся книга — о самостоянии, о человеке, который не был унижен, и, между прочим, в ней нет сочувствия к тем, кто дал себя унизить. Помните, как она пишет там о профессоре, который объедки подбирает? Это ж только так только со стороны кажется: ну да, голод, на что он только не толкал людей — да ерунда всё это! Рядом были сотни людей, которые не ели с помойки. И не умирали, кстати сказать, эти люди обычно и умирают — те, которые с помоек питаются. И у неё нет сочувствия. Она, в общем, более или менее с презрением смотрит на тех, кто дал себя унизить, и никогда не даёт себя унизить. Вот это самостояние, сила, сопротивление — это потрясающий, мне кажется, и главный для меня нравственный посыл этой книги, которая и уходит вперед на годы, и дети, и внуки, и еще кто угодно будут эту книгу читать. Спасибо.
А.К. Сорокин: Книга появилась как результат соединения усилий очень многих людей и очень многих организаций. Один из участников этого проекта находится здесь, в зале, с этим человеком наше издательство сделало много разных полезных публикаций архивных документов, в том числе семитомную историю сталинского ГУЛАГа. Директор Государственного архива Сергей Владимирович Мироненко чудесным, опять же, образом, нашел и дал для этой книги документы следственных дел Евфросинии Антоновны, которые мы по разным причинам не смогли получить в тех ведомствах, где они хранятся по принадлежности, и за это Сергею Владимировичу специальное, особое спасибо, потому что книга изначально задумывалась как синтетический продукт, в котором должны были появиться не только рисунки и тексты Евфросинии Керсновской, но и документы о ней, и вот Сергей Владимирович — тот человек, собственно, благодаря которому это и состоялось.
Сергей Владимирович Мироненко: Спасибо, Андрей Константинович, за добрые слова, ну, естественно, это не только благодаря мне состоялось — благодаря сотрудникам Государственного архива, которые отыскали в надзорных производствах подлинные показания Евфросинии Антоновны.
Я вот сидел и думал, что "не стоит село без праведников". Мы как-то живем и не замечаем, что рядом с нами существуют удивительные люди. Арсений Борисович, мне кажется, очень верно охарактеризовал состояние души этого человека, но вот одно подтверждение, что Керсновская не могла солгать. Её арестовали в 1947 году, когда она ушла самовольно из места ссылки, и следователи её начинают допрашивать, и она начинает говорить такие вещи... Следователь ей говорит: "Что вы делаете? Нельзя такое говорить! Нельзя! Вы что, не понимаете, что вы делаете?" Но она по-другому просто не могла. И вот то, что среди нас, рядом с нами жил такой замечательный человек — просто, знаете, как-то вот дает основания полагать, что не потеряна у нас страна и что, пока такие люди есть, вряд ли восторжествует всё то злое и наносное, что сейчас так активно пробивает себе дорогу.
А.К. Сорокин: Я, на самом деле, очень рад, что здесь сегодня собралась интернациональная аудитория, поскольку, действительно, история у наших народов — тех, что живут на пространствах Восточной Европы, Западной и Восточной Сибири — история общая, судьба общая, да и культуры во многом похожи. Нас многое соединяет, несмотря на то, что пытаются нас всех разделить, в том числе используя тему памяти — ту жестокую, страшную тему, которую мы сегодня обсуждаем, и я действительно рад тому, что находятся люди, которые видят в этой теме, и в этой памяти, и в проблеме исторического и культурного наследия не повод для разъединения, а повод задуматься об общих ценностях, общей истории, общей культуре, о том, что в этом во всем требует сохранения и развития. Я очень рад, что в нашем вечере принимает участие всем нам хорошо известный композитор Евгений Дмитриевич Дога.
Евгений Дмитриевич Дога: Обычно я поднимаюсь на сцену, чтобы подойти к инструменту, но слово — тоже инструмент, и иногда слово, к месту сказанное и точно подобранное, может быть сильнее даже, чем инструмент. Я одно время после консерватории работал в Министерстве культуры, и вот все время там говорили — памятники, памятники, столько-то тонн, из такого-то материала... Вот памятник Памяти — куда более близкое и волнительное, потому что именно с этим памятником у нас не все в порядке. С памятью у нас дела обстоят неважно, особенно с уроками памяти. Этот труд, Керсновской — сам по себе, можно сказать, памятник, изданный именно так, как она хотела, она же его иначе и не задумывала.
Пусть она писала для мамы — я не думаю, чтобы она писала, чтобы войти в историю, вряд ли такие люди думают о том, чтобы куда-то "входить". Думаю, она думала, как выходить из всего этого ужаса, и то, что появилась эта книга, вы знаете — на мой взгляд, она стоит многих размышлений, потому что там по-разному, с разного угла можно посмотреть на человека... А я предпочитаю вообще людей, которые смотрят в глаза.. Я думаю, что Керсновская смотрела правде в глаза... Всё время я наблюдал за ходом её действий, её поступков: она была наивной, как все неординарные люди. Она не верила в то, что происходит, что может что-то случиться плохое. Она жила правдой. Вот эта её наивность, которая характерна только для избранных людей на самом деле — людям одаренным. Художники все наивные, и слава Богу, что есть эта наивность (у кого она есть, естественно), помогает смотреть дальше, что она помогает строить миры, которых нет. Вот она строила этот какой-то идеальный мир, что этот кагэбэшник ее может не обидеть, хотя у него были намерения совсем другого характера. А говоря об уроках истории, я хочу сказать: она пишет о Бессарабии, ныне Молдове. К великому сожалению, сегодня там происходит то, что доказывает, что уроки из истории не извлекают...
Эта книга выходит за рамки просто литературы, она отличается тем, что дает повод для размышлений, может побудить людей, которые не умеют обратиться именно к урокам истории, — извлечь эти уроки... Я особенно благодарен Валерию Пасату, который, собственно, меня познакомил с этой книгой, и я ее прочитал с удовольствием. Валерий, пожалуйста, примите от меня другую немножко — звуковую — историю (дарит ему свой диск). А издательство я поздравляю. Спасибо за ваш огромный труд. Для нас это — большой подарок.
А.К. Сорокин. Пришло время выступить человеку, чье имя здесь несколько раз уже упоминалось, Валерию Ивановичу Пасату, который является автором предисловия к этому изданию. Валерий Иванович не просто руководитель этого проекта: он достаточно известный историк, специалист по истории репрессий, истории депортаций, который работает в этой сфере уже два десятилетия, доктор исторических наук и член-корреспондент Академии наук Молдавии.
Валерий Иванович Пасат: Уважаемые друзья! Сегодня здесь, в зале, присутствует, мне кажется, три категории людей: первая категория — те, кто знал Евфросинию Керсновскую, встречался ней, вторая категория — те люди, которые не знакомы были с ней, но интерес к ее произведению настолько велик, что они сегодня не могли не прийти, и третья группа людей — те, которые помогали издать в полном объеме то, что вы видели в холле здесь — воспоминания Евфросинии Керсновской "Сколько стоит человек". Не удалось бы издать эту книгу без помощи, в первую очередь, Игоря Моисеевича Чапковского, человека очень скромного, но именно ему Евфросиния Керсновская доверила все свои записи, все рисунки, и благодаря ему, благодаря людям, которые его окружали, мы сегодня имеем такое прекрасное издание. Во-вторых, хочется выразить большую благодарность за помощь в подготовке издания директору ГАРФа Сергею Владимировичу Мироненко, о котором сегодня уже говорили, что благодаря ему в конце книги есть приложение в виде документов, которые впервые увидели свет. Не могу не выразить глубокую благодарность Арсению Борисовичу Рогинскому, который тоже принимал не только непосредственное участие в издании этой книги, но взял на себя и роль дипломата, который говорил о Керсновской во Франкфурте, в других странах, а встречи со своими коллегами из других стран — это тоже дорого стоит. Не могу не сказать слова глубокой благодарности и Андрею Константиновичу Сорокину. Мы с ним, так получилось, обсуждали эту тему до того, как я сам попал, так скажем, в заключение, и огромное спасибо Вам, Андрей Константинович, за то, что Вы не просто издали мемуары Керсновской, но издали именно на очень высоком уровне. Высокое качество — это тоже очень приятно, что этот "продукт" приобретает мировую известность. В зале присутствует человек, который уже выступал с этой трибуны — скромный профессор Кишиневского политехнического университета, который не был знаком с Евфросинией Керсновской, но для нас, представителей интеллигенции, — уважаемый человек, известный во всей Молдавии. Это наш молдавский Колумб, который исколесил всю республику и еще в советские времена настаивал, чтобы в каждой школе, в каждом вузе республики были люди, знакомые с мемуарами Керсновской, тогда еще он распространял ее мемуары на ксероксе. Спасибо Вам большое, господин Маринчук, что Вы сегодня присутствуете и помогали нам все эти годы.
Ну вот, издали мы этот труд Евфросинии Керсновской, она долг выполнила. Что дальше, какая предстоит задача? Потому что очень важно не просто издать такие работы, очень важно, чтобы они помогали нам лучше познать нашу историю. Я говорю "познать", потому что с начала девяностых годов, к сожалению, многие политики на пространстве бывшего Советского Союза использовали тему террора, тему ГУЛАГа, тему голода, для того чтобы разделить людей — разделить людей на палачей и жертв. Я думаю, что это очень опасная тенденция, потому что, если вы внимательно читали воспоминания Керсновской, — у нее нет национальных или социальных предрассудков. Человек помогает нам лучше преодолевать эти трудные страницы нашей истории. Я думаю, что вот в этом направлении нужно двигаться. Я очень надеюсь, что настанут времена, когда и в моей стране, стране под названием Республика Молдова, тоже так же будут отмечать юбилей Керсновской, что Керсновская наконец найдет свое место в учебниках по истории Молдавии, что историки будут анализировать ее мемуары — вот к этому, я думаю, мы будем стремиться. А так — большое всем спасибо еще раз.
И.М. Чапковский: Книга вышла — что же делать дальше? — был задан вопрос. Но мне, редактору Галине Васильевне Атмашкиной и тем друзьям моим, которые занимаются изданием, ясно, что делать. Евфросиния Антоновна написала детские книги. Это потрясающие книги. Она вела дневник с 1969-го по 1987 год. Она его вела каждый день. Всё, что она ни делала, было необычайно интересно. Каждый из нас что каждый день делает? Наверное, зубы чистит каждый день, а вот дневник вести каждый день очень сложно. Личный дневник Евфросинии Антоновны имеет три раздела: "Природа-погода", "Здоровье", "В мире", эти замечания потрясающе интересны. В целом ее архив состоит как бы из двух частей: вот этой книги, которая издана, и остального ее творчества. Но слова я не могу подобрать — не творчество, а её служение слову, как она его выражала. И мы хотим поделиться нашей радостью от того, что нам удалось еще сделать, подготовить к публикации: мы сумели опять набрать и отсканировать вот этот ее личный дневник "Природа и погода". Покажет странички этого дневника и расскажет о нем Галина Васильевна Атмашкина.
(Начинается демонстрация слайдов на экране.)
Галина Васильевна Атмашкина: Эту дорожку в саду, ведущую от калитки к двери дома, Евфросиния Антоновна называла "взлетная полоса". На фото она стоит на "взлетной полосе", и мы видим её такой приподнятой, какой она была в 1960 году. Это её любимый сад возле домика в Ессентуках, куда она привезла свою маму. Конечно, условия там отличались от Бессарабии, и она решила завести такой дневник, процарапала на обложке общей тетрадочки слова "Природа и погода". Написала вначале, что хочет разобраться в капризах этой погоды, куда она попала, — рядом горы Кавказские. Она ругает те питомники, которые были в Ессентуках, потому что они не те посадки давали ей, плохие; и она ездила на своем велосипеде в Крым, в Прибалтику, чтобы привезти те яблони, груши, кустарники, которые она считала хорошими, затем их сажала, причем сажала она их не только у себя в саду, но и на улицах, прилегающих к ее дому, и в садах своих друзей.
Евфросиния Антоновна в 1960-х годах после шахты в прекрасной форме, как вы видите, и, чтобы не терять эту форму, она разрабатывает для себя двенадцать комплексов гимнастики, начиная с ходьбы на месте (как Высоцкий пел, "бег на месте"). В дневнике очень смешные рисунки с гимнастическими комплексами. То есть дневник был такой "сборной солянкой", и природа, и погода, и как форму свою поддерживать, "молитву мусульманина" (это название гимнастического упражнения), например, выполнять.
Вы видите, что слева на странице идут числа каждого месяца, потом в клеточке отмечалась ясность или облачность, потом — градусы. Слово "ожеледа" я от нее узнала: это гололёд, он и на деревьях возникает, и на проводах, и когда лед лопается ночью, то кажется, что какой-то взрыв раздался. А на правом поле страницы она рисует "звездочки" — это выпадает снег или нет.
Здесь мы видим — на лыжах она ходит, и значок лыж рисует. Значок есть у каждого ее действия: или лыжи, или посадка дерева, новолуние — он повторяется потом.
Они еще живут с мамой, и она отмечает, что в Новый Год дома не было света — так сказать, шире намного дневник, чем просто метеорологические заметки. Примечательно то, что в Ессентуках по этому дневнику можно датировать фотографии, которые в краеведческий музей, например, попадают. Если музейщики сомневаются, они проверяют по ее дневнику, какая в этот день была погода в этом месяце этого года, сколько градусов. Если не совпадает — значит, фотография неправильно датирована. К дню памяти.
Мы видим, что условия жизни в Ессентуках у нее были очень тяжелые: она воду качала, для полива брала — всё это вручную, трудности очень большие. При этом она заботилась о маме, всегда её водила на озеро, вот последняя очень грустная картинка, где мама сидит у озера.
И ходила она в походы по Кавказу — не только одна, но и с друзьями, с соседом Василием Петровичем Губановым, с его сыном Колей. Удивительно то, что, когда мы набрали дневник, мне казалось, что всё будет о погоде, а когда я прочитала, оказалось, что там и о политике уже немножко появляется, и её воззрения различные, взгляд на людей. Вот, например, очень важно для биографов: когда кто приезжал и что происходило в ее жизни. Каждый день отмечен: вот приехала её подруга по норильскому лагерю Антонина Казимировна Петкун.
Она не пишет здесь о том, что чувствует, когда потеряла маму, дневник это не вмещает. Она пишет о своем горе в отдельной тетрадке. И дальше мы просто видим, что она делает в дневнике перерыв...
Почему она опять через год начала вести дневник в ноябре 1964 года? Она пишет, что хочет побороть апатию, разобраться в капризах погоды. Мне кажется, что с этой поры идет параллельное написание её произведения и ведение этого дневника — это для меня очень важно, потому что когда человек в своих воспоминаниях погружается "во ад", в круги ада, то он должен все-таки иногда оттуда мысленно выходить, и она выходила в свой сад, то есть от тетрадей с воспоминаниями она переходила к цветам, к заботам по дому. Мне кажется, это помогло ей, честно говоря. Видите, она там пишет, что зимой спит на улице. И вообще, когда она писала свое произведение, она даже в комнату не заходила — там умерла мама, она не могла заходить. Она брала купленную ею в Норильске медвежью шубу и зимой спала в такой палатке, "Индонезии". Там она написала начало своего произведения. И дальше в дневнике появляются записи о политике. Сменился Хрущев, стал во главе страны Брежнев, она понимает, что меняется время... Она выбирает опять какую-то новую форму дневника, и характеризует политику США, Британии, Франции, все-таки она — сестра человека, который был великим военным историком... А здесь вы видите шапочку Китая, такое вот обозначение того, что здесь про китайские события. И она целую огромную тетрадь дневниковую делает в другом стиле — целиком посвящает политике.
Здесь очень хорошая такая запись, что "мамина могила к зиме готова". Для нее главное было — весной успеть вскопать огороды всех её норильских друзей, тоже живущих в Ессентуках или Пятигорске, осенью — обрезать у них розы, для неё стали семьей её лагерные друзья. Но первая, конечно, забота — о могиле мамы.
Пока еще продолжаются походы в горы. Она таскает домой уголь, но вы видите, что уже подбираются болезни... Открывается какая-то новая страница в ее жизни: борьба с разрушением сустава (у нее был разрушен сустав ноги от работы в шахте). Она еще не знает, что скоро очень сильно ее будет беспокоить сустав, и она встанет на костыли.
Она не может уже стоя копать. Рассказывал Олег Захарович Ляуфер в Ессентуках, что она наколенники такие имела, чтобы, стоя в них на коленях на асфальте, ухаживать за цветами, наклоняться она из-за болезни не могла, и по земле, и по асфальту она буквально в этих наколенниках ползала, ведь, когда она осталась одна, для нее цветы и деревья были одно время единственными ее друзьями.
1968-й год. Она пишет: "Чехам капут?" Она не пропускала таких событий и правильно их понимала. Мы видим, что весь цвет и все силы она в эти годы отдает гулаговским тетрадям, потому что здесь вот так одноцветно, кратенько... Душу она отдавала тем своим тетрадям.
К ней приезжают друзья — в дневнике постоянно изображаются какие-то люди с рюкзаками за спиной — это и московские диссиденты, и горные туристы, и Наташа с Володей, а это, наверное, из Ленинграда — Грязневы, друзья. Для неё, конечно, большая печаль была, что уехала из Ессентуков Антонина Ивановна Грязнева.
Водораздел — 1970-й год. Она делает операцию на суставе, врачи возвращают ей способность ходить с помощью костылей. Евфросиния Антоновна преодолевает всё. В марте 1970-го (вы видели там картиночку, что она уже на костылях) она начинает борьбу за то, чтобы не уничтожали цветы и деревья, которые были ею посажены на улице. В дневнике постоянное изображение экскаватора, машины, которая по приказу городских властей или коммунальных служб хочет уничтожить высаженные ее насаждения. Она просто выходит на улицу, одна, и воюет с этим. Потому что для нее этот образ жизни — дарить людям красоту, чтобы они видели на улице розы, деревья разных пород. Свой образ жизни ей приходилось отстаивать. Она борется также с обществом охраны природы, которое устранило градобойную службу, "в результате во всем Ставрополье градобой уничтожил всё". Она пишет, что "таких дураков я больше нигде не видела, как в этом обществе охраны природы!" То есть она сама была человеком, охраняющим природу.
Мне кажется, когда она закончила тетради воспоминаний, во всяком случае, хотя бы первые их варианты, — с 1971 года примерно цвет переходит в её личный дневник "Природа и погода", потому что у нее остались эти ручки, которыми она там рисовала, цветные карандаши... Она расцвечивает свой погодный дневник, он меняется и становится произведением искусства. Потом вы увидите, что возле каждого цветка стоит пометка: когда он расцвел. Май и июнь — это самые любимые её месяцы, потому что идет цветение.
В дневнике три раздела: "Погода", "В мире" (что было небезопасно писать, кажется) и "Здоровье", которое она все время характеризовала очень беспристрастно, она знала, как медик, как она себя чувствует. "В мире"- это политика — в одной строчке порой содержится характеристика какой-нибудь страны, кратко, афористично, как выстрел. Она отмечает в дневнике и дни смерти крупных политиков. Ну и, конечно, масса юмора на страницах дневника, и ассоциаций, и аналогий интересных. Она предчувствовала начало войны. Человек, переживший разные войны, она предчувствовала, что в Афганистане будет бойня, и прекрасно знала нашу роль в афганском конфликте.
Мы видим здесь запись, что она посылает деньги. Она не взаймы, не в долг дает, а именно бескорыстно помогает людям. Она редко такие записи делала, но и из других источников известно, что она помогала людям решить их материальные проблемы... Двести рублей она подруге посылает — в 1980 году это было очень много.
Здесь мы видим, что она Пасху постоянно отмечала. На рисунке такой вот куличик, крашеные яйца, и она обязательно старалась вырастить к Пасхе цветы, а если цветы в саду не росли из-за холодной погоды, то она шла в лес, рвала "пролески" синенькие и высаживала на могиле мамы и у себя в саду.
"В мире", конечно, интересно у нее почитать Она понимала значение польских событий 1980-х годов, всё это переживала. Она слушала радио, но наше радио называла "сплетники" и по возможности слушала западные радиостанции. Сама она судила обо всем очень свободно: "Весь мир будто нанюхался какого-то вредного газа. Акты террора, покушение на президента Рейгана... Все тянутся к атомной бомбе, которая скоро выйдет из-под контроля и перестанет быть прерогативой великих держав". Евфросиния Антоновна — пророк, которого в своем отечестве не ценят.
Здесь на ее рисунке мы видим эти яблоки знаменитые, которые она действительно всем раздавала. Бабье лето для неё, как мы видим в дневнике — это яркая пора. Евфросиния Антоновна отмечала также экологические изменения. По её дневнику видно, как всё портится в природе. Стоят деревья какие-то рыжие: это на Кавказе-то!
В 1981 году меняется у нее почерк. Начинало зрение подводить, но она упорно вела дневник.
Знак "крестик" в дневнике — это смерть близких друзей. Вот доктор Мардна, который лечил её в Норильске в лагерной больнице. Она с ним состояла в переписке очень долго, он жил в Прибалтике. Коротко записано о его смерти, но для неё это была большая, конечно, потеря.
В 1987 году последняя запись в дневнике — "душно". Вскоре её постигнет инсульт, тяжелая болезнь, начнется еще одна страница ее жизни. Вначале соседи ей помогут, потом Дарья Чапковская приедет, будет ухаживать за ней...
На этой фотографии начала 1990-х годов Евфросиния Антоновна — в своем доме в Ессентуках, и мы видим, какой она стала, по сравнению с 1960 годом, и взгляд её нам говорит о многом.
И.М. Чапковский: У нас две части программы, одна из частей называется "Свободный микрофон". Конечно, если у кого-то "горит душа выступить", мы можем предоставить две минуты перед тем, как дать слово режиссеру фильма и показать фильм. Сейчас я прочту записку: "Очень прошу дать мне слово, Алиева Светлана Умаровна, историк, автор книги о национальных репрессиях "Так это было"". Просит она пять минут, но я просто чувствую, что мы радостный вечер можем превратить в отяготительный и прошу уложиться в две-три минуты. Из-за того, что, видно, тема очень многих трогает, мы затянули со временем, а гардероб работает до 22 часов...
Светлана Умаровна Алиева: В сорок восьмом году меня тоже репрессировали, мне тогда было двенадцать лет. Репрессировали меня за то, что у меня отец был "плохой", карачаевец. Евфросиния Антоновна "спровоцировала" появление моей книги, которая представляет собой собрание воспоминаний, свидетельств людей, пострадавших по национальному признаку. То есть — ты виноват только по вине национальной принадлежности. Ты еще не родился, но ты уже преступник. Вот так это было, и, поскольку я выросла в ссылке, сформировалась в ссылке, в этой среде в городе Фрунзе, меня все время тяготила вина и стыд за то, что я карачаевка, и это надо было скрывать. Это было постыдно, это было нельзя! И когда я прочитала в "Знамени" первую публикацию Керсновской, то меня потряс эпизод: на пароходе, идущем вверх по Оби, везли группу репрессированных азербайджанцев, и эти женщины у Керсновской тревожно спрашивали: "Они везут нас в Баку?" Это меня потрясло. Потом, вспоминаю прощание с Кайсыном Кулеевым, когда он умирал, случился первый горбачевский съезд, и я, возбужденная этим съездом и объявлением гласности, сказала: "Дядя Кайсын! (он был другом моего отца, я его знаю с детства) Теперь о нас можно правду сказать?" Кайсын (умирающий Кайсын, через месяц его не стало) сказал: "Нет, Светочка, о нас нельзя будет никогда правду сказать". Вот так большой поэт "преступного" народа ушел с этими мыслями на тот свет. Я не хочу вносить трагические ноты. Я хочу сказать, что Керсновскую Бог наделил даром размышления о трагедиях жизни. Я думаю, что всем сидящим здесь (а мне уже семьдесят два года) есть что сказать. Но она рассказала за всех многое, она высветила эпоху, время свое и она осудила это время. Она сохранила свободу, независимость, и надо вам сказать, что она — единственная из всех, прошедших ГУЛАГ, — с сочувствием, с симпатией, с пониманием каким-то писала о национальных репрессиях. В нашем замечательном отечестве признаются политические репрессии, социальные репрессии, но мы до сих пор стыдимся сказать о национальных репрессиях, потому что мы зубами держимся за "великую имперскую державу". Нам важна эта державность имперская, и мы не понимаем, что исторические соседи русского народа — те народы, которые своей территорией, своей культурой делали Россию великой империей — это наши кровные братья. Мы все равны, то есть нет равных — мы все равноправны, и это надо понимать, но это до сих пор не понимается. Керсновская толкала к этому. Она и Кайсын Кулиев вдохновили меня на собирание огромного материала рассказов, человеческих свидетельств. После меня пошли историки, которые собирают всю документацию, оправдывающую репрессии всяческие, но не признают человеческие свидетельства. То, что написала Керсновская, — грандиозное человеческое свидетельство. Я собрала очень много таких свидетельств, которые я считаю человеческим документом и которые важнее всех этих фальшивых документов, которые опубликованы, и публикуются, и удостаиваются докторских степеней, а там нет главного: там нет правды. Там нет корней, объясняющих то, что происходило.
В завершение я хочу поклониться тем, кто Керсновскую явил читателям, большой читательской аудитории, поблагодарить, потому что это ее последователи, ее единомышленники продолжают ее труд. Керсновская оставила личный след не только в Молдавии, но она общественно значимый, гражданский подвиг совершила для всех народов нашего Отечества. Спасибо за внимание.
И.М. Чапковский: Опять просит слова человек, которому трудно отказать, и уже на этом мы поставим точку. Слова просит Мариэтта Омаровна Чудакова, писатель и общественный деятель.
Мариэтта Омаровна Чудакова: Перед нами прошли сейчас со своими выступлениями те люди, которые выполнили свой долг не только перед памятью Евфросинии Керсновской, за которой все мы следим с конца 1980-х годов, но и перед своим Отечеством, я бы сказала. Но предстоит вторая часть работы, о которой сегодня мы почти не говорили. Без этого то, что они выполнили, во многом лишается смысла, не побоюсь этого слова. У нас так устроено сейчас общество, что даже всё, о чем пишется, до людей каким-то образом не доходит.
К счастью, сегодня упомянули об угрозе, которую очень мало кто понимает. Учебник истории, который сначала был выпущен, как книга, а по нему сделан уже учебник для школы, под руководством Филиппова. Тут призывали, что, может быть, что-то дойдет до его души. Я видела этого человека — я прошла, так сказать, без приглашения на большую конференцию в Академии повышения квалификации европейских историков, избранной части школьных учителей, я видела этого человека. Жванецкий сказал в одной своей передаче: "Когда я увидел Зубкова, я почувствовал, что помолодел на тридцать лет!" Когда я увидела лицо этого человека, я почувствовала, что помолодела на бесконечно большее число лет. Это лицо моего детства, сталинского времени, номенклатуры: жестокое, холодное лицо человека, который знает, что делает.
Вот выпущен потрясающий альбом. Для кого? Для москвичей, отчасти петербуржцев (не все могут купить книгу за 2500 рублей, но многие все-таки купят), а в школах в ближайшие годы будут (если мы не займемся этим) обучать подростков тому, что "Сталин — успешный менеджер"! И они будут приходить домой к своим родителям, бабушкам и дедушкам, которые хорошо знают про Керсновскую, и говорить: "Что вы нам вешали лапшу на уши? Какой там массовый террор? В школе сказали, что всё правильно, массовый террор был, потому что он был нужен!"
Я уверена, что мы должны — все, кто может (вот такой простой путь) — обратиться к богатым людям (у нас совершенно неправильное в обществе мнение, что богатые у нас — совершенные мерзавцы). Огромное количество людей, как говорили мне те, кто знает это непосредственно, присылают анонимно (как сказала мне мать одного из тех, кто занимается активно этим) немыслимые деньги на счета для больных лейкемией детей. И этих людей надо просить: купите книгу Керсновской для трех юношеских библиотек России — пусть каждый купит для трех! Я готова способствовать тому, чтобы развезти эту книгу в библиотеки всей страны. Эта книга, такой альбом должен лежать, на мой взгляд, в каждой детской и юношеской библиотеке нашей страны. Тогда дело Евфросинии Керсновской будет, мне кажется, доведено до конца. Большое спасибо.
И.М. Чапковский: Несколько успокоительных слов по этому поводу. В 2004 году пятитысячным тиражом вышла книжка "Сколько стоит человек" в сокращенном варианте и с небольшим количеством рисунков, специально сделана она была для школ. Издал ее фонд Филатова. Стоила такая книга сто рублей, но её нигде уже нет, а основная часть тиража ушла, действительно, в школы.

 И. М. Чапковский: Всего двадцать лет назад, когда было восьмидесятилетие Евфросинии Антоновны, его отмечал очень узкий круг людей. Это несколько близких людей, которые тем не менее, конечно, представляли масштаб этой личности. Сейчас можно сказать, что "клуб почитателей Евфросинии Антоновны", или Фроси, как ее звали близкие, стал международным. У нас здесь есть люди из Республики Молдовы, которая сейчас даже границ не имеет с Россией, есть гости из Норильска, Ессентуков. Эти немолодые люди предприняли такое вот тяжелое, порой многотысячекилометровое путешествие, чтобы почтить Евфросинию Антоновну. Радостно смотреть на зал, который уже не всех вмещает, стоят люди, хотя, возможно, есть места — можно садиться. И вот надо сказать, что Евфросиния Антоновна совершила добровольное путешествие в ГУЛАГ — в место, в котором погибли миллионы невинных людей. Миллионы погибли, миллионы вышли. Но из миллионов вышедших было немного тех, кто сохранил себя духовно. Прежде всего, ГУЛАГ посягает на память человека, на его восприятие, большинство отворачивается и делает вид, что его нет. Когда люди прошли ГУЛАГ и сохранили себя физически, то их давит их духовно, пытается лишить их памяти. Я считаю, что ГУЛАГ — это явление мировой истории. В середине шестнадцатого века испанцы уничтожали голландцев. Голландия была их колонией. И в какой-то момент этой сорокалетней борьбы они издали указ, что все голландцы виновны и подлежат сожжению. Тех, кто остались живы, называли "недосожженные". Об этом через триста лет Шарль де Костер написал произведение "Легенда об Уленшпигеле", в котором дал блестящее, на мой взгляд, определение памяти. Тиль говорит о своем сожженном отце: "Пепел Клааса стучит в моё сердце". Он определил память как стук в сердце.
И. М. Чапковский: Всего двадцать лет назад, когда было восьмидесятилетие Евфросинии Антоновны, его отмечал очень узкий круг людей. Это несколько близких людей, которые тем не менее, конечно, представляли масштаб этой личности. Сейчас можно сказать, что "клуб почитателей Евфросинии Антоновны", или Фроси, как ее звали близкие, стал международным. У нас здесь есть люди из Республики Молдовы, которая сейчас даже границ не имеет с Россией, есть гости из Норильска, Ессентуков. Эти немолодые люди предприняли такое вот тяжелое, порой многотысячекилометровое путешествие, чтобы почтить Евфросинию Антоновну. Радостно смотреть на зал, который уже не всех вмещает, стоят люди, хотя, возможно, есть места — можно садиться. И вот надо сказать, что Евфросиния Антоновна совершила добровольное путешествие в ГУЛАГ — в место, в котором погибли миллионы невинных людей. Миллионы погибли, миллионы вышли. Но из миллионов вышедших было немного тех, кто сохранил себя духовно. Прежде всего, ГУЛАГ посягает на память человека, на его восприятие, большинство отворачивается и делает вид, что его нет. Когда люди прошли ГУЛАГ и сохранили себя физически, то их давит их духовно, пытается лишить их памяти. Я считаю, что ГУЛАГ — это явление мировой истории. В середине шестнадцатого века испанцы уничтожали голландцев. Голландия была их колонией. И в какой-то момент этой сорокалетней борьбы они издали указ, что все голландцы виновны и подлежат сожжению. Тех, кто остались живы, называли "недосожженные". Об этом через триста лет Шарль де Костер написал произведение "Легенда об Уленшпигеле", в котором дал блестящее, на мой взгляд, определение памяти. Тиль говорит о своем сожженном отце: "Пепел Клааса стучит в моё сердце". Он определил память как стук в сердце.
 Владимир Леонидович Ройтер. В нашей семье имя Евфросинии Антоновны всегда занимало большое место. Отец у меня был репрессирован в 1937 году, после многочисленных мытарств по тюрьмам и пересылкам попал в Дудинку сначала, на общие работы, а оттуда больным был доставлен в Норильск. Был он уже в то время крупным специалистом-строителем. Норильск был для таких людей в некотором роде счастливым местом, потому что промышленность и городское строительство требовали не только рабочей силы, но и кадров очень высокой квалификации, творческого подхода и так далее. Для этих людей, прошедших тюрьмы, пытки, была избавлением сама возможность как-то проявить свои способности, силы, свои умения на практике. Отец был фанат техники, любил своё дело, и это для него было, конечно, счастье, что он попал в Норильск, хотя до этого прошел он все круги страданий, как и многие другие. В начале 1950 года мы с мамой (отец в то время освободился, у него окончен был срок и было еще поражение в правах) прибыли в Норильск. Я в то время учился в седьмом классе. И вот в Норильске буквально в первые годы соприкоснулся я с Евфросинией Антоновной. Каким образом? Ну, первое: как-то отец, придя домой, принес рукописную книжку, такую тетрадку с рисунками. Она была поперек разрезана на три части и нарисованы человеческие фигуры. Насколько я знаю, такая тетрадь или подобная тетрадь сейчас имеется в архиве Керсновской. Она была сделана так интересно — двенадцать страниц всего, но сочетаний получалось большое количество, потому что на верхней части было лицо, на средней — торс, и на нижней — ноги. Лагерные типы. Они в любом сочетании смотрелись как законченные портреты. Я тогда это не связывал с именем Евфросинии Антоновны, может быть, оно и не называлось даже, и тем не менее в памяти это осталось. Второй момент: рассказы, которые ходили. Норильск был город небольшой, тем более если говорить о вольнонаемных, так вот, ходили рассказы о некоей женщине, которая в шахте дала отпор какому-то высокому начальству, вплоть до того, что чуть ли не съездила по физиономии за сквернословие или за какое-то оскорбление. Такой поступок был совершенно немыслим в то время, и это воспринималось, как некая легенда. Но я помню эти рассказы. Лично я был знаком с одним из сослуживцев Евфросинии Антоновны Дмоховским Владимиром Николаевичем — я у него брал уроки русского языка. Он в то время освободился, и с их семьей мои родители дружили. Потом я закончил школу, институт в Москве, женился, жили мы в Москве. В письмах родители упоминали про некую Фросю, с которой мама очень дружила, кстати сказать. И она с восторгом, иногда с иронией, рассказывала о её чудачествах, о её совершенно незаурядных поступках и поведении. Однажды в нашей квартире (жили мы тогда в Люблино) раздался звонок, и на пороге оказалась женщина — вот примерно как она здесь изображена, на ее портрете в рост, только у нее шаровары были опущены донизу и черный берет на голове. Я уже знал к тому времени о существовании некоей Фроси, она представилась. Она думала, что моя мама находится здесь, и поэтому надеялась её тут застать, но ошиблась. На приглашение в дом она отказалась идти, распрощалась, узнав, что мамы нет, и это была моя единственная личная встреча с ней.
Владимир Леонидович Ройтер. В нашей семье имя Евфросинии Антоновны всегда занимало большое место. Отец у меня был репрессирован в 1937 году, после многочисленных мытарств по тюрьмам и пересылкам попал в Дудинку сначала, на общие работы, а оттуда больным был доставлен в Норильск. Был он уже в то время крупным специалистом-строителем. Норильск был для таких людей в некотором роде счастливым местом, потому что промышленность и городское строительство требовали не только рабочей силы, но и кадров очень высокой квалификации, творческого подхода и так далее. Для этих людей, прошедших тюрьмы, пытки, была избавлением сама возможность как-то проявить свои способности, силы, свои умения на практике. Отец был фанат техники, любил своё дело, и это для него было, конечно, счастье, что он попал в Норильск, хотя до этого прошел он все круги страданий, как и многие другие. В начале 1950 года мы с мамой (отец в то время освободился, у него окончен был срок и было еще поражение в правах) прибыли в Норильск. Я в то время учился в седьмом классе. И вот в Норильске буквально в первые годы соприкоснулся я с Евфросинией Антоновной. Каким образом? Ну, первое: как-то отец, придя домой, принес рукописную книжку, такую тетрадку с рисунками. Она была поперек разрезана на три части и нарисованы человеческие фигуры. Насколько я знаю, такая тетрадь или подобная тетрадь сейчас имеется в архиве Керсновской. Она была сделана так интересно — двенадцать страниц всего, но сочетаний получалось большое количество, потому что на верхней части было лицо, на средней — торс, и на нижней — ноги. Лагерные типы. Они в любом сочетании смотрелись как законченные портреты. Я тогда это не связывал с именем Евфросинии Антоновны, может быть, оно и не называлось даже, и тем не менее в памяти это осталось. Второй момент: рассказы, которые ходили. Норильск был город небольшой, тем более если говорить о вольнонаемных, так вот, ходили рассказы о некоей женщине, которая в шахте дала отпор какому-то высокому начальству, вплоть до того, что чуть ли не съездила по физиономии за сквернословие или за какое-то оскорбление. Такой поступок был совершенно немыслим в то время, и это воспринималось, как некая легенда. Но я помню эти рассказы. Лично я был знаком с одним из сослуживцев Евфросинии Антоновны Дмоховским Владимиром Николаевичем — я у него брал уроки русского языка. Он в то время освободился, и с их семьей мои родители дружили. Потом я закончил школу, институт в Москве, женился, жили мы в Москве. В письмах родители упоминали про некую Фросю, с которой мама очень дружила, кстати сказать. И она с восторгом, иногда с иронией, рассказывала о её чудачествах, о её совершенно незаурядных поступках и поведении. Однажды в нашей квартире (жили мы тогда в Люблино) раздался звонок, и на пороге оказалась женщина — вот примерно как она здесь изображена, на ее портрете в рост, только у нее шаровары были опущены донизу и черный берет на голове. Я уже знал к тому времени о существовании некоей Фроси, она представилась. Она думала, что моя мама находится здесь, и поэтому надеялась её тут застать, но ошиблась. На приглашение в дом она отказалась идти, распрощалась, узнав, что мамы нет, и это была моя единственная личная встреча с ней. Светлана Георгиевна Слесарева: Добрый вечер. Я очень рада, что стала участником этого события. Надо сказать, что Норильлаг был местом заключения очень многих талантливых и известных людей. Наверное, вы об этом знаете. Но почему-то мы наиболее часто обращаемся к имени Евфросинии Антоновны Керсновской. Наверное, потому, что она — какой-то пример уникального таланта, необычайной силы духа, веры, безмерной души и человеколюбия. И когда мы рассказываем об этом в музее, на выставках или вечерах, то это всегда имеет очень большой резонанс. В конце 1990-х годов мы стали сотрудничать и общаться с фондом сохранения наследия Евфросинии Антоновны Керсновской, с Игорем Моисеевичем Чапковским и его соратниками. Я очень благодарна судьбе, что такая встреча случилась, и это сотрудничество продолжается по сию пору. Надо сказать, что в 2000 году мы делали совместный выставочный проект в нашем музее, и Дарья Чапковская была нашей гостьей и автором выставки "Живопись и графика Евфросинии Керсновской". До сих пор в Норильске вспоминают эту выставку. Ну а мы тоже не так давно сделали выставку, которая называлась "Яблоки Евфросинии", наверное, потому, что это символ доброты Евфросинии Антоновны. Вы, конечно, все прекрасно знаете о том, что она в Ессентуках вырастила небольшой яблоневый сад и, собирая урожай, укладывала яблоки в ящик, выносила их в людное место и оставляла там с запиской "Берите даром". Это, наверное, и призыв ко всем нам: быть добрыми в любых обстоятельствах и постоянно. Быть добрыми друг к другу. И еще, самое главное, наверное, что, оставаясь заключенной, находясь в несвободе, Евфросиния Антоновна (я просто такого примера не припомню) всегда оставалась свободным человеком. И это, конечно, случай и судьба, которые потрясают.
Светлана Георгиевна Слесарева: Добрый вечер. Я очень рада, что стала участником этого события. Надо сказать, что Норильлаг был местом заключения очень многих талантливых и известных людей. Наверное, вы об этом знаете. Но почему-то мы наиболее часто обращаемся к имени Евфросинии Антоновны Керсновской. Наверное, потому, что она — какой-то пример уникального таланта, необычайной силы духа, веры, безмерной души и человеколюбия. И когда мы рассказываем об этом в музее, на выставках или вечерах, то это всегда имеет очень большой резонанс. В конце 1990-х годов мы стали сотрудничать и общаться с фондом сохранения наследия Евфросинии Антоновны Керсновской, с Игорем Моисеевичем Чапковским и его соратниками. Я очень благодарна судьбе, что такая встреча случилась, и это сотрудничество продолжается по сию пору. Надо сказать, что в 2000 году мы делали совместный выставочный проект в нашем музее, и Дарья Чапковская была нашей гостьей и автором выставки "Живопись и графика Евфросинии Керсновской". До сих пор в Норильске вспоминают эту выставку. Ну а мы тоже не так давно сделали выставку, которая называлась "Яблоки Евфросинии", наверное, потому, что это символ доброты Евфросинии Антоновны. Вы, конечно, все прекрасно знаете о том, что она в Ессентуках вырастила небольшой яблоневый сад и, собирая урожай, укладывала яблоки в ящик, выносила их в людное место и оставляла там с запиской "Берите даром". Это, наверное, и призыв ко всем нам: быть добрыми в любых обстоятельствах и постоянно. Быть добрыми друг к другу. И еще, самое главное, наверное, что, оставаясь заключенной, находясь в несвободе, Евфросиния Антоновна (я просто такого примера не припомню) всегда оставалась свободным человеком. И это, конечно, случай и судьба, которые потрясают.