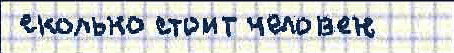|
п»ї |
Е. Керсновская – Л. Ройтер. 1964 г.
На рисунке в альбоме Е. Керсновской: Александра Алексеевна Керсновская, 17 января 1964 г. Дорогая Лидия
Эразмовна! Не в добрый час берусь я за перо и не с легким сердцем принимаюсь за письмо: умерла моя ласковая старушка – первый и последний, единственный и незаменимый мой друг… Разумеется, мало людей имеют счастье в пятьдесят семь сет с любовью произносить слово «мама»; и еще реже встречается, в восемьдесят пять лет, такая любящая, молодая душой, полная жизни, мать. Посторонний, не знавший ее человек, не сможет, по-настоящему, понять и оценить понесенную мной утрату. В восемьдесят пять лет она не была старой. Старость – это равнодушие и эгоизм; старость – это растительная жизнь, когда все духовные запросы затухают, притупляются и человек утрачивает все, что украшает его духовный мир, как деревья теряют листья, и голые, безжизненные, встречают зиму. Мама до последнего дня своей жизни любила (причем любила интенсивно, страстно) все, что красиво, возвышенно. Она просила посадить ее против окна: «…хочу видеть сад, небо, солнце… всю природу…» До самого конца она испытывала наслаждение, слушая музыку. Ей было трудно дышать, и все же, слушая накануне смерти «Ивана Сусанина», она пыталась подпевать любимым ариям, а где не могла, продолжала дирижировать рукой: «…ты взойди, моя заря – последняя…» (и ей суждено было увидеть еще лишь одну зарю, последнюю, семнадцатого января). Она просила сыграть Грига, а когда я, проиграв две пластинки, поставила Гайдна, думая, что она задремала, она встрепенулась и сразу сказала: «…это – Четвертый концерт Гайдна!..» Силы ее покидали, и в последний день, я уверена, что она сознавала, что умирает, но не хотела меня огорчать. К полудню она настояла, чтобы я прилегла отдохнуть (неделю я вовсе не спала): «…Мне сейчас не надо кислорода, я подремлю; приляг и ты: на тебе лица нет!..» Она сидела, обложенная подушками, поперек кровати, а я прикорнула в изголовье, смотря нее сквозь ресницы. Когда она подумала, что я уснула, она повернулась ко мне. Боже мой! Какая тоска, какая безысходная грусть была в ея взгляде! Я не выдержала… и сделала вид, что проснулась… и встретила ласковую – даже радостную улыбку ея любящих, ясных глаз, которые оставались ясными даже и тогда, в 9.45 вечера, когда она несколько раз повторила: «…будь со мной! Не отходи, не уходи никуда!..», затем взяла меня за руку, другой рукой отвела мундштук кислородной подушки, откинулась на подушку… и сама закрыла глаза… Этой услуги мне не пришлось ей оказать… Мертвая, она будто помолодела, морщинки разгладились, губы улыбались. Старушка моя была удивительно хороша! И слышу я ея слова, сказанные за два дня до смерти: «…я тебе так благодарна за всю твою любовь и заботу, за то, что ты создала мне счастливую старость… Ты так хорошо обо мне заботишься! Я так люблю наш скромный, уютный домик; наш садик – наш «райский уголок» кажется мне самым красивым на свете! Знай, что я – самая счастливая мать, а ты – самая любимая дочь на свете! Только я злюсь на себя за то, что доставляю тебе столько забот: я хотела тебе помогать, но вместо помощи причиняю тебе только огорчения… Знай, где бы ты ни была – мое благословение всегда будет с тобой… как благословение твоего отца никогда тебя не покидало в тяжелое время испытаний!..» А я не смогла ее спасти… Наша медицина не для того существует, чтобы продлять жизнь стариков, которые уже не могут выполнять производственные задания. У нас просто рассуждают: «Восемьдесят пять лет? Атеросклероз. Пора умирать». Ерунда! В восемьдесят пять лет у мамы была хорошая память, ясное мышление, острый интерес ко всем мировым событиям, замечательный слух и хорошее зрение: она очень много читала, но с 49-го года пользовалась одними и теми же очками. Кровяное давление было 155/75 (за пять дней до смерти), пульс ритмичный, хорошего наполнения (дыхание остановилось до остановки сердца), РОЭ – 5 мм. Формула крови – норма по Шиллингу (лишь лейкоцитоз 8200); до последнего дня в моче не было ни белка, ни цилиндров. Не смогла я ее спасти. Напрасно привлекала я внимание наших эскулапов к тому, что у нея недавно распухла левая голень и именно одновременно с этим появилась одышка. Опухоль, под влиянием лечения, прошла, но одышка прогрессировала и появились боли в висках. Теперь мерзлая земля покрыла ея гроб и поздно задавать себе вопрос, зачем я не сделала того-то или того-то, но… До чего болит сердце, когда я вспоминаю свою любящую, доверчивую старушку… «Я знаю, что ты поступаешь правильно и все будет хорошо. Я горжусь тобой!» До чего мне больно! Почти двадцать лет была она лишена моей заботы, любви… И лишь три с половиной года могла я ее ласкать, баловать, любить… Для чего пишу я все это? Кто поймет, чем была она для меня? Я – не очень общительна. Может – грубовата. Судя по внешности, трудно себе представить, как я нуждалась в том тепле, которое давала мне любовь этой маленькой, слабой старушки. Она стояла между мной и холодным одиночеством. И теперь я чувствую вокруг себя такую космическую пустоту! Никто себе и представить не может, какая волна радости заливала мою душу, когда я видела, что она довольна, что она радуется. А она всегда радовалась, всегда была довольна. Не помню, чтобы у нея было плохое настроение, чтобы она ворчала или с осуждением о ком-либо отозвалась. Напротив, у каждого человека она замечала лишь хорошее и сколько раз я подтрунивала над ея энтузиазмом! Но в глубине души за этот оптимизм я ее больше всего и любила. И сколько раз мне хотелось стать лучше именно потому, что она не замечала моих недостатков и так искренно восхищалась моими «достоинствами»… даже когда их, может быть, и не было, или, верней, они были в ея любящем сердце… Не бьется теперь это сердце. И все кругом теперь померкло, поблекло… Что поделаешь? Против воли, как-то само собой, все, на что она смотрела своими ласковыми глазами, казалось мне более ярким, красивым. Она – мать и, казалось бы, это вполне естественно, что мать умирает раньше дочери. Но… Для меня она была не только матерью. Я испытывала к ней как бы материнскую любовь. Может быть, это было оттого, что после двадцати лет разлуки, когда мы вновь встретились, я была крепче, независимей – как бы «старше», а она была слабее, беспомощней и более нуждалась в заботе, ласке; а может быть, просто заговорил «материнский инстинкт», свойственный каждой женщине… даже если это и очень неудачный экземпляр этой породы? Во всяком случае, это она была моим ребенком, а утрата единственного любимого и любящего, и такого доверчивого и беспомощного ребенка оставляет незаживающую рану. Кроме того, вместе с ней в могилу ушло все мое прошлое – то есть счастливое прошлое: детство, начиная с того момента (о котором она часто вспоминала с такой любовью!), когда ея новорожденное дитя припало к ея груди впервые; и та пора, когда я доставляла ей столько забот… и радостей; и тот период, когда ребенок начинает мыслить, становится человеком. Юность, молодость… На ея глазах я возмужала… и все же для нея осталась ребенком. Только в ея глазах отражалось мое прошлое – счастливое, далекое. Глаза эти закрылись, и в могиле скрылась – окончательно и навсегда – лучшая часть моей жизни. Так грустно кругом – холод, пустота… Может быть, у меня есть друзья. И если я Вам пишу о своем горе, то есть попросту плачу, не стыдясь своих слез, то и Вас я причисляю к ним. А может быть, нервы сдали. Я многое и многих в жизни теряла, но лишь теперь я осознала, что потеряла все. Я просто не в силах еще раз писать об этом и поэтому очень прошу Вас передать это письмо Антоше. Она недавно была у нас, и мама так была рада ее видеть. Маме очень понравилась и Тамара – другая моя приятельница, и она часто говорила, как бы она хотела, чтобы они обе поселились в Ессентуках: «…у тебя хорошие друзья и я так хотела бы, чтобы вы были вместе!..» Хотела она познакомиться и с Татьяной, о которой я ей больше всего рассказывала, но – не судьба была им встретиться… Говорят – время все залечивает. Но я знаю, что окончательно излечивает все страдания только смерть. А теперь, с
крепким рукопожатием, кончаю. Евфросиния
Керсновская – Лидии Ройтер Дорогая Лидия
Эразмовна! Если же я так скоро принимаюсь строчить ответ, то это отнюдь не оттого, что я себя совсем хорошо чувствую. Правильнее было бы признаться, что я так аккуратна лишь оттого, что погода очень уж бессовестна. Мало того, что всю зиму холода были поистине сибирские, но даже теперь, когда должны были б цвести сады, температура держится около нуля градусов и местами еще лежит снег. В мороз и в теплую погоду можно хоть чем-нибудь заняться, но когда градусник показывает этакую нейтральную температуру, моя энергия уподобляется ртутному столбику и показывает то же самое число. Что тогда остается делать? Рисовать, читать, писать?.. Пытаюсь заниматься и тем, и другим, и третьим, но… без особого успеха. Для того, чтобы рисовать, надо иметь побольше таланта, чем у меня, хотя, если «поскрести по сусеку», то его можно собрать достаточно, чтобы испечь какой-нибудь художественный колобок. Но надобно еще и настроение! А этого-то и нет… Когда мама уже болела, то ее очень огорчало, что я не отхожу от нея: «…я злюсь на себя за то, что ты из-за меня не имеешь никаких развлечений!..» И она смотрела в газете прежде всего, что идет в кино, и уговаривала меня сходить посмотреть ту или иную картину… До того ли мне было?! Так вот, чтобы она не пыталась заставить меня развлекаться, я взяла мои краски расположилась у ея ног рисовать – ведь это было ея мечтою! Особенно ей хотелось, чтобы я нарисовала ей море – то море, что она всегда так любила и так мечтала еще хоть раз увидеть – пусть даже только с борта самолета! Жизнь ея окончилась раньше, чем я окончила картину. И может ли у меня быть настроение, чтобы рисовать? Читать-то я читаю. Даже – слишком много. Глаза себе совсем испортила – то ли от слез, то ли от чтения, а скорее всего, от злоупотребления и тем, и другим. Даже досадно – портить зрение, читая такую жеваную солому, как книги из нашей городской библиотеки! А читающих знакомых у меня нет. Правильнее было бы сказать, что, кроме Алевтины Ивановны, у меня вообще знакомых нет, а Алевтина Ивановна любит книги в красивых переплетах и чтобы они стояли на книжной полке. Остается – писать. Вот я и пишу письма. Но это – раз, два – и обчелся! Не стану же я писать – *I.II.III.И вот я слоняюсь без дела и уныло смотрю на запотевшие стекла окон. Потеплеет, подсохнет грязь, которая пока что совсем непролазная. Я немного повожусь в садах – главным образом, чужих. Свой у меня теперь ничего, кроме грусти, не вызывает… Мама его так любила! Не то что просто любила, а до смешного – обожала. Ходит, бывало, и останавливается то тут, то там, и все не может решить: «этот уголок люблю… а тот – еще лучше! А, может быть – этот… и – этот…» И не могла им налюбоваться! И не оттого, что он был особенно красив, а просто потому что в ея стареньком сердце был неисчерпаемый запас молодой любви. Пожалуй, на этом можно было бы и закончить, но еще не исчерпано две темы: здоровье и «виды на будущее». Со здоровьем дело – дрянь. Оно и так было «не ахти». А тут еще получилась такая «авария». Маме большое облегчение приносил кислород: как бы ни плохо ей было, но, стоило подышать кислородом, как ей сразу становилось лучше. Надо ли говорить, что кислородом я ее снабжала – день и ночь – бесперебойно? Но ночью приходилось ехать довольно далеко. И вот пятнадцатого января (а умерла она семнадцатого) ночью в 12.30 я, с двумя подушками, мчалась на велосипеде через парк, когда дорогу мне заступил какой-то мильтон. Однако ночной сторож, шедший с ним рядом, крикнул «это кислород, из аптеки!», и милиционер посторонился… для того, чтобы, когда я поравнялась с ним, ударить ногой в обод переднего колеса. Колесо вывернулось, велосипед «брыкнул», и я метров пять летела по камням. Быстрота была – предельная (я, чтобы сэкономить силы, разгоняла что было мочи, на спуске, чтобы побольше пролететь по инерции) и, если бы не сознание, что маме нужен кислород, я навряд ли бы встала… Сторож помог мне подняться и, пока он приводил в порядок велосипед, я высказала вкратце мой взгляд на милицию. Однако мне было не до того, чтобы заниматься этим болваном: я думала лишь о том, чтобы помочь маме… И не очень думала о том увечии, что получила сама. Но такой ушиб не прошел мне даром: от сотрясения мозга целую неделю меня рвало; локтевой отросток отломался, а это не прирастает уже никогда; весь бок был черный, как чугун, и, что хуже всего, так ушибла сердце, что оно – и до того уже изрядно поизносившееся в шахте, – совсем потеряло равновесие и теперь колотится как ему вздумается: то тарахтит, как автоматная очередь, то – совсем замолкает. Съела уйму камфары, хинина и дигиталиса, но без особого успеха. Как потеплеет, я съезжу в Киев. Это я должна обязательно выполнить волю отца. Киев – город его юности, он его очень любил и не раз говорил: «…я уж не увижу Киева; так хоть ты, когда сможешь – побывай там и передай ему мой поклон». И мама очень настаивала, чтобы я туда съездила и побывала в соборе, где она венчалась. Ну, поживем – увидим. А теперь
желаю Вам всего доброго. Кланяйтесь Леониду Андреевичу и Мар. Сав. Не покидайте
Антошу. Она – хороший человек, но… слабый. Евфросиния
Керсновская – Лидии Ройтер Не стану подыскивать вразумительные оправдания тому, что я стала довольно-таки неаккуратным корреспондентом. Самая «объективная причина» – это ремонт дома: я переложила печь, отштукатурила и подправила стены, упорядочила погреб, побелила все и покрасила полы. И не так это было б сложно, будь у меня необходимые «стройматериалы» и… немного больше опыта в этих видах работы. А то приходится призывать на помощь фантазию и интуицию, а это не всегда заменяет опыт и знание… тем более, что покупаешь не то, что нужно, а то, что можно, а качество… Тут царит лозунг: «лопай, что дают». К тому же с погодой не повезло: все время холод, ветер и дождь, дождь без конца и какой-то нудный, осенний. Сижу в беседке, среди мокрых вещей, со всех сторон капает, буквально течет. Я могла бы пообождать, пока погода не наладится, но… Пьерушка и К˚ выезжает из Ленинграда на своей «пятидверной» «Волге», и не хотелось бы, чтобы он застал тут «раскардаш». Вот я и тороплюсь со всем покончить. Он собирается заехать в Москву, а затем – в Харьков, к своим бывшим соседям, Ореховским, а затем, побывав в Ессентуках, «проследует» в свою Кишки-Мишки, где жизнь дешевле, так как можно питаться «обратом» (десять копеек литр) и картошкой, и можно обходиться без сахара. Я буду рада
их повидать, но… остается у меня какой-то горький осадок… Как мама их ждала в
прошлом году! Она очень хорошо ладила с Еленой Яковлевной, и хотела
познакомиться с ея сестрой... Вот, будучи в Ленинграде, она звонила Пьерушке, от него узнала, что они собираются «в турне», и что они на меня «дуются», что я им не пишу. Мне нетрудно написать. И не одно, а три письма. Но… не такое у меня настроение, чтобы писать веселые письма, а писать грустные… Стоит ли? Итак, «пятидверная» колымага двинулась в путь. Боюсь только, что путешественники не сумеют извлечь из этого похода достаточно удовольствия. Надо уметь радоваться; уметь находить к тому повод. Вы в своем прошлогоднем «турне» сумели «взять то, что можно», хотя время Ваше и было ограничено – с одной стороны, пребыванием у Вас внука, Андрейки…, с другой стороны, Вы были ограничены сроком самого отпуска, и даже то, что Вам полагается, было сокращено. И все же Вы пожили на берегу реки с друзьями, и затем – на Черном Море. Будь у Вас больше времени, Вы, наверное, побывали бы у нас, съездили бы в Нальчик, и уж наверняка – в Домбай. А им-то, Пьерушке и К˚ – куда спешить? Что они там – в Кишках-Мишках – не видели? А тут можно было бы пожить, поездить. Ведь Домбайская Поляна уже и теперь далеко не та поистине прелестная местность. Там уже все изгадили, и будут гадить и дальше, так как там идет «строительство» – да простят меня архитекторы, возглавляемые Вашим супругом и повелителем! Как только подумаю об этой казарменно-стойловой архитектуре – без архитектурных излишеств – где идеалом считается спичечная коробка, и вся разница лишь в том, поставлена ли коробка плашмя, на ребро, или – «на попа». Убожество фантазии архитекторов и скопидомство тех, кто отпускает им средства – стоят друг друга. Здесь, в Ессентуках, сносят такие красивые, изящные дома дачного типа, радующие глаз, и строят нелепые стойла из штукатурки, приклеенной соплями к железному каркасу, так что смотреть тошно! Но… не буду наступать на мозоли! И, лучше всего, закончу на этом. А Вы-то – «осваиваете» ли водительскую премудрость? Помните: это очень необходимо! Лыжи Вы освоили. Это хорошо. Но водительские права Вам необходимы. Помогай Вам
Аллах! Евфросиния
Керсновская – Лидии Ройтер Сегодня в два часа ночи я вернулась из «путешествия», и первое, что меня «по темени стукнуло» – это известие о смерти Владимира Николаевича (Дмоховского - ред.). Как Вы уже, должно быть, знаете, он после занятий пошел отдыхать в садик, где ему стало плохо. Инстинкт сработал: вместо того, чтобы зайти в аптеку (на углу, в их доме!) и вызвать «скорую», он потянулся домой. На третий этаж!!! На лестнице он упал и умер. Смерть его и для меня – утрата: это был, может быть, «последний из Могикан» настоящей интеллигенции – не просто «образованный», а по-настоящему культурный, чуждый пошлости и меркантильности. Я привыкла – хоть в письмах – вести с ним беседу и в моем рюкзаке находилось недоконченное письмо, в котором я с ним, по обыкновению, делилась впечатлениями от моей поездки. Несколько поэтизируя, можно было бы сказать, что это – «смерть в строю», но откровенно говоря, скорее можно это назвать… лошадиной смертью – смертью в хомуте… Он так любил природу! Понимал ее, любил, умел ее ценить! Ему бы давно следовало отдыхать вдали от города, с его ядовитой атмосферой, запахом бензина и асфальта, с непрерывным шумом. Он любил, положим, и свой Арбат, и ту физику, которую он умел преподавать поистине идеально (могу сослаться на авторитет мамы, которая была настоящим, любящим свое дело педагогом; когда мы были в Москве, она, сидя в столовой, прислушивалась к тому, как он «втемяшивает» в голову своего не слишком шустрого умом ученика очень сложную «материю», сказала: «Вот это – не только умный, знающий свой предмет, преподаватель, но идеальный, милостью Божией, педагог».) Мир праху его и земной поклон его могиле! И все же очень жаль и глубоко обидно, что он не прекратил вовремя вдалбливание – пусть и любимого предмета – но в нестоящие такой жертвы, головы. Ведь Мусенька им посылала ежемесячно сто рублей, что, приплюсованное к их пенсии, могло бы дать возможность отдыхать полноценным, здоровым отдыхом, посещая интересные места, где природа красива, а воздух чист. Впрочем, мне кажется, что, получая сто рублей, М.А. посылала своей дочери больше, чем на сто… Сегодня же получила письмо от Пьерушки, так удрученного смертью друга, у которого он еще так недавно был проездом. Еще будучи у меня, он говорил, что не одобряет того, что Владимир Николаевич все время занят уроками с разными тупицами! Сколько ни люби он свой предмет, а быть педагогом тяжело. Даже – для здорового. А ему? Чьи легкие были облитерированны слизью! Ведь какая это колоссальная нагрузка сердцу – протолкнуть и окислить кровь в такой легочной ткани! Но теперь – хватит об этом! Я две недели была «в ?» и работы накопилось – уйма! Я не говорю про мой сад, к которому, должна признаться, я утратила значительную долю интереса с тех пор, как нет той, которая его любила. Но растения для меня все равно остаются «зелеными друзьями» – теми друзьями, которые никогда не бывают неблагодарными: неблагодарность – прерогатива человека, а растение – всегда скажет спасибо. А моей любви и заботы ждут много растений – неполитых, неухоженных – чьи хозяева не могут, не умеют или просто ленятся им прийти на помощь. Сегодня же, на столе в беседке, я нашла записку от Маруси Горденко – ныне Корниенко. Я постараюсь – если не сегодня, то завтра – ее повидать, однако уже из записки я вижу, что Вы собираетесь с Андрейкой приехать к нам, в наши края. Я очень приветствую Ваше намерение и полагаю, что и Вова с Любой не преминут сменить Вас в том, что касается ухода за Андрейкой, чтобы Вы смогли «вздохнуть свободной грудью». Улица у нас спокойная – почти без машин; парк – под боком, лесок – три квартала от нас. Неподалеку – квартала два – возле дома Алевтины (сестры Веры Ивановны) – лужайка (где тоже «мои» насаждения), и там найдутся ребятишки его возраста, чтобы парнишка не скучал. Озеро, как говорят, «что надо», однако, оно довольно далеко – за городом – и туда надо добираться автобусом. Есть детский пляж, мороженое, лодочная станция, уборная, и вообще все то, чего не всегда найдешь на морском пляже. Одним словом, приезжайте. В любое время дня и ночи считайте, что у меня Вы – «у себя дома». Только учтите одно: часто меня не бывает дома. Обратитесь к соседке, она вас ко мне пустит. А вот что Вам необходимо нужно, то это побывать в Домбайской Поляне… пока ее еще окончательно не изгадили (что обязательно случится в ближайшем будущем) и не загородили высоченнейшими заборами с надписью «вход воспрещен» (что может случиться еще того скорей). Кстати: я рассчитываю на Вашу помощь: я приобрела фотоаппарат «Зенит ЗМ», но… «темна вода во облацех»! Смотрю на него, как баран на новые ворота, и не с кем посоветоваться! Правильнее было бы сказать, что мне вообще не с кем и не о чем говорить, и вскоре я разучусь издавать членораздельные звуки. Общаюсь я только с Алевтиной Ивановной, но с ней можно говорить только о будущем ея Саши, и то избегая всяких «острых углов» и «шероховатостей», на которых я обычно задерживаюсь: она, хоть и никогда не страдала, но напугана раз и навсегда, а разговор с такими людьми довольно… пресен. Соседка же – славная женщина; с ней можно говорить о помидорах, картошке, огурцах. Это, вообще, неплохо, но слишком однородно. В Пятигорске бываю редко, и все же иногда захожу к Мовсесянам. Но как-то всегда получается, что ли его нет, или ея нет, или нет дочки, и разговор сводится к вздохам и сожалению, что кого-то из них нет. В Пятигорске же есть у меня одна старушка – страстная любительница цветов. О тюльпанах с ней можно говорить без конца, а если еще коснуться роз и гортензий, то тема на весь визит обеспечена. Слава Богу, что эти визиты все же редки. (* старушка Фролова - ред.) Однако, мое письмо принимает затяжной характер, а пора спать. Я все же устала: за две недели я побывала в Киеве, Одессе, Ялте, Сочи, откуда пошла на юг – то пешком, то на катере. Вчера утром я купалась в Сухуме, в полдень – в Гудауте, вечером – в Адлере, где, бросив несколько монет, я сказала морю «до свидания»; за тридцать пять минут я была в Минеральных Водах. И вот я опять дома… Хотя понятие дома вызывает мысль о близких, родных, так что я не совсем чувствую себя «дома». Но все же, после всех видов транспорта – поездов, автобусов, теплоходов, вертолетов и самолетов – сидеть у себя в беседке – это почти дома. Ну, пока что, до свидания! Сердечный привет Леониду Андреевичу. У Вас теперь
заспанное солнце кружит над тундрой; у нас темная ночь… впрочем, фонари все
равно светят. А вот в лесу на Новоафонской горе – там ночь как ночь была: лишь
светляки посвечивали да море шумело. Пахли цветущие липы… Хороша жизнь! И жаль
тех, кто может сказать: «…вкушая, вкусно мало меду и се аз, ныне умираю»
(кажется так?) ! Е.К. Евфросиния
Керсновская – Лидии Ройтер 14 июля 1964 г. Дорогая Лидия
Эразмовна! Я всегда радуюсь, получая Ваши письма, а последнее Ваше письмо меня не только обрадовало, но и растрогало: Вы не ждали, чтобы описываемое Вами событие «…отодвинулось на некоторое расстояние, позволяющее правильней оценить…» и т.д. и т.п., то есть все то, что принято говорить, чтобы не признаться попросту, что у нас не принято, «дохнув озона», сразу делиться впечатлениями; «благоразумие» учит, что сперва надо украдкой оглянуться, на цыпочках подойти к двери, выглянуть в обе стороны, и лишь тогда, когда «озон» выветрится и будет заменен привычным запахом плесени, можно браться за перо. А Ваше письмо – «с жару, с пылу» – как блин со сковородки – еще «скворчит» и распространяет аппетитный аромат… которого у остывшего блина не бывает. Извините за кулинарное сравнение и войдите в мое положение: я голодна… О! Не подумайте только, что это – в прямом смысле. Но оттого, что я голодна в переносном «фигуральном» смысле, голод не менее мучителен. А с тех пор, как моя старушка навеки умолкла, я не слышу ни одного человеческого голоса, так как самодовольное хрюканье и злобный лай, которым наполнен эфир, вызывает лишь отвращение; покорное мычанье и беспомощное блеяние иногда прямо-таки возмущают. Даже воркование и кудахтанье не в силах меня растрогать, а повизгивание и мяуканье напоминают лишь о том, что те, кто издает эти звуки, ждет подачки. А человеческих слов, которые светятся мыслью и горят, согретые настоящим чувством, я уже пять месяцев не слышу. Удивительно ли, что душа по ним изголодалась?! Может быть, я сама виновата? Может быть, я сама забилась в тупик, и жизнь – настоящая, интересная – проходит мимо, и я просто не умею ее заметить? Но нет! Все, куда ни глянь, вполне довольны: и в похрюкивании, и в повизгивании не слышно нотки тоски, и улыбки их вполне самодовольны: Чингиз так долго их тренировал, что они и не подумают с заходом солнца уйти в степь, чтобы выплакаться. Зачем? Лучше они пойдут в кино, в танцульку или же усядутся, как бараны, перед телевизорами, и будут смотреть на такие же самодовольно улыбающиеся физиономии, как и у них самих. Зачем палачу рубить головы? Палач! Эта профессия отжила. Разве что – «по совместительству»? (И то на «общественных началах») Вместо грубых палачей теперь опытные дрессировщики; умело манипулируя кнутом и пряником, они добились того, чего не мог добиться Чингиз: улыбка стала «привычным рефлексом», и, получив свой пряник, люди уверовали в «рай»… так как в противном случае кнут им вобьет в другое место эту самую уверенность и… Одним словом, улыбаться, во всех отношениях, рентабельней. Но теперь – о другом. Мне казалось, что Зигмунд и Ганзелка путешествуют только на своих «Татрах» – перевозя их иногда то на поезде, то на пароходе; но как они пристроили свои «Татры» к самолету? Впрочем, завоевав мировую славу «вездеходов», они могут, сдав в багаж «Татры», «дать крюк» до Колымы, Чукотки, Якутии и прочим «местам отдаленным, преступно-населенным». Не пойму только, какую роль играет при них тот «красноярский писатель»? Не думаю, чтобы он был «ангелом-хранителем»… Это было бы слишком «кустарно», да и необходимости в этом нет: теперь все так хорошо выдрессированы, что – даже баз всякого принуждения – сами побегут и в очередь станут – лишь бы не опоздать проявить свою сознательность и раньше других изложить в верноподданнической форме точный отчет о том, кто и что говорил… и что при этом думал? Никто, пожалуй, больше меня не тоскует по… горному воздух, напоенному озоном, но как раз писатели (после священников) внушают меньше всего доверия… Если в каждом священнике я вижу «потенциального ренегата», то с писателями дело обстоит иначе: в подавляющем большинстве это – организованные в рабочие бригады маляры «художественного» слова и, как это обычно бывает в бригаде, иногда – очень талантливые, иногда – нет, но выполняющие, всей бригадой, то задание, которое бригада призвана выполнить. Если же среди них встречаются люди, пытающиеся «сметь свое мнение иметь», то… Отчего-то приходит на ум «подсадная утка». Если Вы охотой не занимались, и этот термин Вам незнаком, то возьмите Паустовского и прочтите рассказик – «Речная Клеопатра», кажется. Бывает, понятно, и иначе: напишет какой-нибудь писатель «отсебятину», не согласовав предварительно с бригадным заданием, а затем и начинает извиваться, как червяк: прочтешь его произведение в журнал-газете – так написано одно; отдельной книгой – другое, а экранизированное – совсем другое. А то – те же стихи, в трех изданиях – совсем иначе читаются. Вот недавно купила я «Деревенские рассказы» Ефима Дороша; читала я их в «Литературной Москве» за 57-й год, а теперь читаю – и не узнаю. Правда, писать – одно, а говорить – это куда проще… особенно, если нужно, чтобы у слушателей с «неполоманными хребтами» создалось впечатление, что и у писателя хребет не боится палок. Ради этого можно и корсет на «либеральных косточках» одеть. В одном мы с Вами никак не сойдемся во взглядах: очень уж Вы всерьез поверили, что к прошлому возврата нет! Что был какой-то «культ» – и все этим объясняется: нет этой «личности» – значит, немыслимы методы, ею применявшиеся. Но Вы – человек начитанный, культурный и вряд ли Вам незнаком жестокий культ Ваала, в чьем капище в Сардах стоял золотой идол, в медном брюхе которого горел огонь, и когда идол этого желал, то дверца этого брюха отворялась, и жители Сард, отцы, своими руками вталкивали в это раскаленное чрево идола своих сыновей, и в слюдяное окошко наблюдали их мучение (говорят, в момент величайшего страдания на лице жертвы появлялась улыбка – та «сардоническая улыбка»). Так кто же был виноват в этом жестоком обычае? Неужели – идол?! Идола теперь
нет (того – золотого, с медным брюхом), но… Впрочем, на эту тему и так сказано
слишком много… чтобы разгневать жрецов Ваала. Закончим на том, что я Вам очень
завидую. И будем ждать очередной книжки Зигмунда и Ганзелки. (Все предыдущие –
по крайней мере те, что я могла достать, я прочла, разумеется.) Теперь – о других путешественниках. Не из «златой Праги», а из «Петра творения»… на которое Петр утратил права. Что и
говорить: Волга – жестянка подходящая. Но… «не в коня корм»! На что им машина,
если они из нея, кроме мороки, ничего не извлекают?! Владимир Николаевич
отчасти прав, когда говорит, что Пьерушка боится, как бы его Волгу не постигла
судьба Малек-Аделя тов. Чертопханова, и посему денно и нощно не отходит от нея.
Но это не совсем так: Чертопханов разъезжал на Малек-Аделе, а Пьерушка – как
ввел свою жестянку во двор к Алевтине Ивановне, так две недели она там и
простояла. Такие дивные у нас шоссе… и мы – впятером – ездили… на электричке по
городам-курортам (притом, если бы я их туда не повезла, они бы их и ни
увидали). А о том, чтобы съездить в Домбайскую Поляну – самое красивое место
Кавказа, куда приезжают из-за границы, чтобы полюбоваться – и речи не было!
Хотя половина красоты Домбая уже исчезла: там построили ГЭС, отели (из
штукатурки – того коробочно-пошлого типа, который и в городе противен, а на
фоне гор – сплошная дисгармония), зато дороги очень хороши. И... ни одного снимка! Правда, Пьерушка Ника
фотографировать не умеет: он так долго и тщательно что-то вычисляет по
специальным таблицам, что получается нечто серое и непрезентабельное. (Но тут я
не смею критиковать, так как сама я так и не решилась заняться фотографией –
все не выберу себе аппарат – и уподобляюсь легендарному ослу Буридана, который
издох от голода и жажды, стоя между охапкой сена и ведром воды) Зато в том, где
я чувствую себя «подкованной», я сужу смело, и поэтому мне и смешно и досадно,
что, проведя две недели у меня, Пьерушкины дамы почти все это время… пролежали
на кроватях в комнате, с книжками в руках, наглухо закрывая окна, когда в их
распоряжении сад, в котором цвели тюльпаны, пионы, а затем – сирень, жасмин и
начали уже розы! Есть садовые кресла, которые можно установить и на солнце, и в
тени, есть беседка с двумя кроватями, есть раскладушки и, наконец, виноградная
лоза оплетает весь дом, образуя сплошную беседку. Выбирай на любой вкус! А они
предпочитают привычный «футляр»! Эх! Бедная
моя старушка умела ценить, любить и наслаждаться тем, что красиво – природой!
На днях в одной из ея книг я нашла недоконченное письмо, написанное уже
незадолго до смерти. И в этом ея письме столько оптимизма, любви и того
светлого тепла, которым была пронизана вся ея жизнь… Нет, не могу я примириться
с такой несправедливостью, как ея смерть: в ней оставалось еще слишком много
света для того, чтобы унести его во мрак могилы. Я была недавно у Мовсесянов, и они мне сказали, что нынче Вы не собираетесь выезжать из своего любимого Норильска. Признаться, и мне он казался вполне «приемлемым», пока я там жила, но теперь я не могу без отвращения о нем вспоминать. Весьма вероятно, что это – благодаря тому последнему уроку, которым закончилось мое «высшее образование». Без этого урока у меня осталось бы слишком много «романтических бреден», и я бы верила, что беззаветная преданность труду – по крайней мере, в такой смертельной работе, как шахта – как-то ценится и к чему-то обязывает начальство; затем я смогла убедиться, как мало считаются с решением «товарищеского суда», когда товарищи, вместо того чтобы, взявши в руки шпицрутены, чтобы «прогнать сквозь строй» того, на кого их науськивали, «всыпали» тем, кто науськивал; потом, когда я обратилась к прокурору Кретову, протестуя против газетных пасквилей, я могла воочию убедиться, как жалок прокурор, когда ему приходится говорить в присутствии «ангела-хранителя»; кое-что мне объяснил Моня, поговоривший «по душам» с редактором. Короче, говоря, напоследок Норильск показал мне во всей красе свое лицо, которое – увы – очень походило на… ослиный зад, как известно, не отличающийся чистотой. И все же,
если Вы надумаете побывать «в Европах», то заверните в наши края – навестите
мои «пенаты»… пока они у меня есть. А это будет не так уж долго, так как меня
скоро выселят и дадут девять квадратных метров в общем бардаке: район, в
котором мой домик, слишком «лакомый кусочек» для наших строителей. Зачем им
обживать новый район? Разбивать парк, сады, проводить воду и так далее? Проще
выгнать людей и воспользоваться готовым. Ну – хватит!
И так слишком много написала. Кланяйтесь Леониду Андреевичу, а заодно и тем,
кто меня, может быть, еще помнит. Ф. Евфросиния
Керсновская – Лидии Ройтер 16 октября 1964 г. Дорогая Лидия
Эразмовна! Я уже не помню, когда и о чем я Вам в последний раз писала. Кажется, после моей экскурсии-экспромта с переходом через Клухор при грозе и так далее. Так что повторяться не буду. Казалось, что на этом «горные авантюры» на нынешний год – високосный и несчастный – закончены, и я принялась зато, что, до некоторой степени, отвлекает от грустных мыслей – за возню с цветами и прочее. Здесь у меня нет друзей и очень мало знакомых; но те, что есть – очень дружно издеваются надо мной за то, что я трачу время, силы на то, чтобы прививать и выхаживать розы и сирень – сажать, поливать и рыхлить… хотя наша культурная публика их все равно изломает. Так, просто, лишь бы изгадить то, что красиво. Только за то, что это – цветок… а не картошка. Но ведь я выращиваю деревья, кусты и цветы не для этих цивилизованных вандалов. И даже не для себя. Во всяком случает – не для моего развлечения. А просто… душа ждет хоть какой-то теплоты, благодарности… Люди – могут быть неблагодарными (и не только «могут», а таки всегда так оно и получается!), а растение – всегда скажет «спасибо» за заботу: оно расцветет – и это его улыбка; оно принесет плоды – и это «спасибо». Вот поэтому мне не жалко того времени, которое я «трачу на глупости» – на моих зеленых друзей. И с осенними работами нынче надо поторапливаться, так как осень идет «с опережением графика» на целый месяц. Но судьба еще раз «перемешала все карты». Сижу я вечерком в своей Индонезии. Дождь. Холод. Темнота. Читаю книгу о джунглях Амазонки. Вдруг, откуда ни возьмись, передо мной «знакомая незнакомка»: в прошлом году в электричке познакомились с немолодой уже «туристкой», мечтающей о походах в горах. Разговорились и… расстались. А нынче она опять приехала из Москвы. Лечить колит и… ей захотелось взамен колиту приобресть хороший радикулит, ишиас, или хотя бы пару ревматических очажков. Таким образом, она мне предложила… полезть на Эльбрус! Это – в октябре, когда даже в нормальные годы все перевалы уже в середине сентября закрыты, так как там уже бушуют метели. Я пробовала ей это растолковать, но она так меня упрашивала! Каюсь: у меня не хватило мужества, чтобы признаться, что… страшновато. И я согласилась… в тайной надежде, что дождь помешает «стартовать». Но, как назло, дождь перестал, и, выехав в 6.30, мы двинулись к Нальчику и, вверх по Баксану, через Тырны-Аул в Тарскол, куда мы попали к четырем часам. Не теряя времени, набрали по вязанке хвороста и двинули в горы (которые там чертовски круты). К наступлению темноты мы уже были довольно высоко. Попалось очень хорошее местечко: в затишке, меж скал, спрятались от холодного ветра несколько сосен. Несколько причудливых утесов, ручьев… Местечко – будто создано для ночлега! Разожгли костер, сварили похлебку из картошки и цыпленка. Запили крепким чаем. Но, когда надо было располагаться на ночь, выяснилось, что у моей компаньонки очень большой рюкзак, но… в нем много картошки, яблок… и три бутылки нарзана №17. Зато – нет ни шерстяных носков, ни свитера, ни штанов, ни одеяла… Спускаться в темноте по такой крутизне и потом еще четыре километра вниз по Баксану в поисках ночлега? Я предпочла отдать ей свои носки, штаны и свитер, и укрылись одним одеялом. Было минус пять и очень резкий ветер. Не скажу, чтобы мне было очень уютно – с голыми ногами и в одной блузке! Утро выдалось ясное, и мы, чуть забрезжил рассвет, двинулись к «Приюту одиннадцати», что на Эльбрусе. Признаться, я в горах не бывала в такое время года: когда мы прошли над большим водопадом и пошли крутые скалы, покрытые снегом на полметра. И мороз уже – минус десять. Понятно, движение согревает, но… голые ноги – все равно голы… К тому же из-за Чегема появилась серо-белесая туча; приближалась метель, и я отказалась «переть на рожон». Моя энтузиастка возмутилась: «…что мы, в Москве, метели не видели?!» Но идти по асфальту – это одно, а скалы над водопадами и пропастями – это совсем другое дело! Впрочем, спуститься мы успели своевременно. Так что бы Вы думали?! Вместо того, чтобы поблагодарить Аллаха, что мы унесли свои кости с Эльбруса, неугомонная любительница сильных ощущений настояла на том, чтобы подняться по канатной воздушной дороге на гору Чегем! (Там будет «Зимняя Олимпиада» и поэтому устроена канатная дорога для подъема лыжников) Разумеется, мы были единственными безумцами, пожелавшими болтаться на канате при ураганном ветре, который набивает снег за пазуху! Однако мы не только благополучно вернулись вниз, но даже добрались в тот же вечер в Ессентуки. |
Материал сайта можно использовать только с разрешения наследников.
Условия получения разрешения.
©2003-2024. Е.А.Керсновская. Наследники (И.М.Чапковский ).
Отправить письмо.