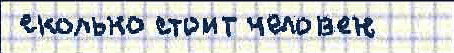Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
Февраль 1983 года
Дорогая Лидия Эразмовна!
На днях я вернулась из «blitz»-броска в Одессу. Ох! Как не хотелось мне в такую «нелетную» погоду – снег, туман (при температуре минус четырнадцать), ветер и ужасный гололед – предпринимать эту авантюру! На костылях (со стертыми накостыльниками) брести по глубокому снегу, под которым такой коварный лед! Три раза полет откладывался, и, изрядно подморозив, нас возвращали. И то – «не слава Богу»: Одесса нас не приняла, повезли нас в Кишинев, который нас тоже не принял, и, промотавшись весь день «в воздусех», наконец сели в Одессе… где нам подали такой обледенелый трап, что пассажиры – точно мастера бобслея из Сараево – мчались вниз, устанавливая мировые рекорды.
Но, слава Богу, что все это – позади! Я полагаю, что никто бы меня не осудил, если бы я не приехала на День Рождения моей маститой учительницы, но… Кто знает? Не было ли это – нашим последним свиданьем? Ей – девяносто лет, и ея бывшие ученики (из числа которых я – едва ли не с самым внушительным стажем!) решили собраться у нея (заодно вручить ей «Почетную грамоту за пятидесятилетний стаж учительской работы»). Грамота – нарядно оформленная, со всеми шаблонными изречениями и набившими оскомину атрибутами… и ни одним словом не вспоминавшая, через какие нервотрепки ей приходилось проходить, когда ее – педагога с университетским образованием – снимали с работы, переводили то в еврейскую, то – на украинский язык, то – к дефективным ребятам, как вынуждали отрекаться от горячо любимого мужа… чтобы сохранить своих двух дочерей 23-го и 25-го года рождения (мужа забрали в 33-м году за «украинский национализм»; умер он в 40-м… а узнала об этом она лишь в 54-м, когда он был реабилитирован… посмертно). Правда, не все, кого она ждала, явились: гололед многих испугал (и не зря: больницы переполнены пострадавшими от переломов).
Всего я побыла в Одессе четыре дня: один день потратила, чтобы купить подарки «Марусе» (то бишь Марии Федоровне), а для себя – так и не купила ничего – даже лекарств, которые у нас полностью отсутствуют! Остальные три дня просидела с Марусей, выслушивая все ея жалобы. Это характерно: все старые люди – хлебом их не корми – но дай возможность «пожалеть себя» и похныкать над своей горькой судьбой! Каким счастливым исключением была моя старушка! Она – уже смертельно больная, все уговаривала меня: «сходи в кино! Ты со мною измучилась! Тебе надо развлечься!» В день своей смерти она мне сказала: «Знай, что я – самая счастливая мать на свете, а ты – самая любимая дочь!» (Слава Богу, что она не знает, каково этой дочери – теперь!)
Сегодня – воскресенье. Обычно в воскресенье я тащусь в Пятигорск. Когда-то – еще когда был жив Иван Георгиевич – я чувствовала себя, как бы это сказать? «Уютно», что ли? Теперь же… Нет! Я не скажу, чтобы меня что-то «коробило». Этого нет. Но нет и теплоты. С Софьей Богдановной можно иногда побеседовать. Катя? Она очень мила, добра, но… Мысли ея все время где-то витают...
(…)
Впрочем, не исключено, что объяснение значительно проще. У Джека Лондона есть рассказ: где-то в Скалистых Горах в результате землетрясения образовалась неприступная долина. Это было давно. Люди – жители этой долины – стали слепнуть. Сперва – глаза болели, в следующем поколении они очень плохо видели, а еще через несколько поколений – все были слепы. И были очень довольны: им казалось, что они очень счастливы. И действительно, всего у них было в избытке, и лучшего они не желали. Когда же к ним случайно попал зрячий человек, они возмутились и решили – раз уж ему суждено жить среди них, то его надо ослепить. Дальше – описание того, как трудно зрячему улизнуть от хорошо организованных слепцов.
Я это читала лет шестьдесят тому назад… а вспоминаю за последние несколько десятков лет довольно часто и… не очень удивляюсь: случилось и мне переживать «полосу благополучия», когда хотелось забыть, «махнуть рукой», не думать (не испытывать «мировую скорбь», как говорил в насмешку покойный доктор Миллер). Я рассуждала: «Мне – хорошо (пусть и «относительно»); надеюсь – будет и лучше; все тяжелое, горькое – позади. Впереди – обеспеченная жизнь (я еще не думала – «старость»), встреча с мамой – моей доброй, хорошей старушкой! Уж я постараюсь «компенсировать» все горькие годы ее одиночества! Тринадцать с половиной лет работы в шахте (и какой работы! Я всегда выбирала самую трудную, самую ответственную) – работы, в которую я вкладывала всю душу! «Еще немного. Еще чуть-чуть!»
Это был холодный, зато отрезвляющий душ. И я поняла: ложь нельзя нейтрализовать ничем. И на лжи может произрастать лишь зло. Через несколько дней наступает Великий Пост, те сорок дней, что Христос провел в пустыне, где Он сказал Сатане: «Ты – ложь. И – отец лжи!»
Разумеется, мне – старой, одинокой и калеке – не так уж радостно живется на свете, и бывают дни, когда воспоминания так и рвутся наружу! Вот, например, сегодняшний день – 23-го февраля, день Федора Тирона, когда сорок два года тому назад – в «Прощенное Воскресенье» – ко мне – умирающей от истощения – собрались женщины попрощаться со мной: «Ты умираешь, Фрося – ангельская твоя душа: ты за нас заступалась, ты не знала страха… Пошли тебе Бог легкую кончину!» И – среди своих «даров» (было «заговление», и я и сейчас помню эти «дары»: кусок квашеной капусты, кусок сыворотки, кусок творога, три картофелины величиной с лесной орех, три луковки три чесночинки и… грамм сто хлеба!) были два медных пятака (закрыть глаза) и… восковая свечка – тоненькая, как карандашик. И – странное дело! Все – непонятно: откуда берутся силы… когда сил нет? Кто отвел мою руку, сжимавшую топор? Кто надоумил меня перемахнуть прорубь? Я ринулась на север… а вышла на юг. Как прошла я «Великую Гарь» – проклятое место с незамерзающими трясинами? И эта «Гарь» – сто двадцать километров! А у меня были… три луковки, три чесночинки, сто грамм хлеба… Как надоумил меня одноглазый старик «зарабатывать»… не «на хлеб», а на… сушеную картошку, заготовляя топливо на лето? (летом в тех местах трясины, и дрова заготовляют зимой) Сколько еще вопросов так и останутся без ответа? Лишь не так давно на один вопрос я получила ответ: во Внутренней Тюрьме, в Барнауле, у меня долго – на все лады – допытывались: как я смогла выйти на Бахчарский тракт? Ведь там… Васюганы? Труднее всего верят правде. Я и говорила только правду. А они… вызвали охотника-таежника, которому я весь свой маршрут описала чуть ли не шаг за шагом! И этот «специалист» изрек: «Ей просто повезло! Недели две позже Васюганы были бы непроходимы». Тогда я только удивлялась: «Что за Васюганы? В той глухомани путевых указателей ведь нет! Просто шла, ориентируясь по звездам, по солнцу, продираясь через чащобу, через зыбкие болота, через речушки с черной водой – и все». Лишь недавно мне попалась книжка (одна из многих книжек о «деревенском детективе Аниськине), и тогда я узнала, что Васюганы – Верхний, Нижний, Средний и Малый – успешно заменяют «высшую меру наказания» – выхода из них нет… Невольно станешь суеверным! Хотя… Суеверье ли это? Или… Впоследствии, сколько раз мама мне говорила: «Я так молилась своему Ангелу-Хранителю: «сохрани меня… и мою дочку!» Это – маминому Ангелу-Хранителю по совместительству – и обо мне забота. Что ж, уж во всяком случае – это была не синекура!
Однако меня, по обыкновению, «занесло в сторону»: начала о Мовсесяна, а заехала… в Васюганы! А объяснить это – очень даже просто: Мовсесянам – хорошо. И они сердятся, если кто-либо сомневается, что из лжи может вырасти благополучие. Кормушка – полна; что – здесь можно раздобыть, а «дефицит» – Маня пришлет. И в Кисловодске – свой «микроклимат» – не только метеорологический, но и материальный. А «мировая скорбь»? Кому это нужно? Я уже не помню, какой причине приписывал Джек Лондон слепоту жителей той долины. Но для зрения жителей наших долин очень вреден… телевизор. Но душевная слепота наступает незаметно, и также незаметно (но и непреодолимо) наступает… желанье видеть всех слепыми.
Еще несколько дней, и по календарю наступит весна. Но природа «и в ус не дует»! Зато ветерок дует тот, что на Крайнем севере называется «хиусок» – пронизывающий. Метет поземка. Даже не скажешь. Что мы – на 43-й параллели! Похоже, что прошлое мое письмо не дошло.
Желаю Вам:
1) Отгулять Масленицу и
2) Со спокойной душой вступить в Великий Пост.
Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
27 февраля 1983 года
Дорогая Лидия Эразмовна!
Сколько прошло? Месяц? Полгода? Год? (со времени, что мы обменялись с трудом «выдавленными» письмами) Наступил у нас какой-то… «запор», и для того, чтобы «разродиться» с натугой очередным письмом, надо – или долго и мучительно «тужиться», или… принять что-то вроде «слабительного»: в данном случае, вроде поездки. Вы – к нашим (чуть-чуть культурнее нас самих) «братьям» (не во Христе, а в... молчу!), а я… в Одессу-маму – мой родной город (который, как известно, отличается от Иерусалима лишь тем, что в нем нет… арабов. Впрочем, эта классификация уже устарела: в настоящее время совершенно невозможно точно установить, в каком месте «спектра» террористов-арабов и неарабов, мусульман, христиан, суннитов, шиитов, друзов, и прочая и прочая, находится Арафат, а где Бургиба, и вообще, кого и в какой угол загнали?)
Но Одесса остается Одессой, а одесситы – это нация, хотя и не представленная в ООН, но имеющая представителей во всех частях света… (кроме, разве что, Антарктиды?)
Одним словом, поехала я туда не для того, чтобы «дохнуть воздухом моего детства», а для того, чтобы «украсить» своим присутствием девяностолетие моей первой (и, пожалуй, единственной) учительницы, так как в дальнейшем все науки я осваивала, полагаясь почти исключительно на ресурсы собственного моего интеллекта.
Торжество получилось грандиозное… если учесть, что почтить свою любимую учительницу собрались «ученики» разных лет – и с 16-го, и с 19-го, с 31-го, 41-го и 49-го годов – с бородами и лысые, явились они в количестве двадцати семи персон, с женами, мужьями, бутылками шампанского, тортами (и трубочками с кремом домашнего производства – пальчики оближешь!) Моя Маруся (то бишь, Мария Федоровна) сияла, но… по окончании торжества мне (полагаю – и ей) было очень горько от сознания, что это – уже не «жизнь», а всего лишь… вспышка последнего уголька под пеплом отгоревшей уже жизни… Кто это сказал? Кажется, Ницше? Главное в жизни – «Stirb zur rechten Zeit» – «вовремя умереть»* – не дожить до своей беспомощности, до полной зависимости от кого бы то ни было. Пусть Маруся живет в собственной своей квартире, но зависит она от своей дочери; пусть она обеспечена приличной пенсией (девяносто два рубля), но она совершенно беспомощна: она почти слепа (катаракта – это вполне «операбельная» беда, но… кто хочет возиться со старухой?); органы и системы у нея – на редкость здоровы, но… она чувствует, что никому не нужна. Кто к ней на третий этаж влезет? Молодым она не нужна, а ея ровесники… Жива лишь одна, Ванда (ей девяносто один год). С нею она может поговорить… по телефону (и то – если зятя нет дома; в противном случае он из своей комнаты прерывает их разговор). Сама она никуда пойти не может. А я ежегодно навещаю ее ко дню рождения (13 февраля)… на неделю. Навестить ее летом, чтобы ее «побаловать» – сводить в парк (когда-то – Александровский, теперь – имени Шевченко)? Он рядом, но… третий этаж. И надо пересечь две улицы… Одна она не может, а возиться с ней… Кому это нужно?
(…)
Одним словом, уехала я оттуда с «тяжелым камнем на душе». Жаль Марусю. Она – приемная дочь старой девы, дочери старого польского шляхтича, «прижившегося» у стариков Керсновских. Она выходила моего отца, умиравшего в двенадцатилетнем возрасте от тифа. У него произошла перфорация кишок, и врач сказал, что спасти его невозможно. «Дайте его мне» – сказала старая дева, взяла умирающего, унесла его к себе и… вылечила. Чудо? Случайность? Все равно. Она была очень преданна всем Керсновским, а мой отец ее боготворил: на первые же свои заработанные деньги он помог «тете Эмиле» осуществить ея мечту: стать народной учительницей, заиметь свою профессиональную школу для девочек, в Одессе. А Маруся? Это «плод грешной любви» дочери богатого помещика и гусарского офицера… который застрелился из-за карточного долга (даже не зная, что «увлечение» имеет «последствие»). Вот, чтобы скрыть это «последствие», помещица с дочерью приехали в Одессу, где Леля родила, а тетю Эмилю попросили отнести новорожденное дитя в сиротский приют. Вот тетя Эмиля и решила взять себе ребенка. Помог ей в этом опять же мой отец (тетя Эмиля Ольшевская была католичка, а в те годы католики не имели права усыновлять детей православных). Папа был крестным ребенка; он же помог совершить все формальности. Тетя Эмиля обожала свою Марусю. Зимой они жили в Одессе; летом – в Цепилове, в «Старом Доме» Керсновских. Эти счастливые годы и любит вспоминать со мной Маруся. Но счастье редко длится долго: тетя Эмиля умерла от рака печени. Мои родители взяли Марусю к нам. Она блестяще окончила гимназию, а затем «Высшие Женские Курсы» (Университет) и осталась работать там же.
Дальше… 17-й год, а затем 18-й, 19-й, 20-й… Маруся осталась в Одессе, вышла замуж за хорошего человека – бывшего военнопленного австрийской армии, родила двух дочек и в 33-м году… Даже не в 37-м, а в 33-м: ея муж был украинцем, и как «националист» попал сперва на пять лет, а в 38-м, когда должен был освободиться… его не освободили, и лишь в 54-м, когда он был реабилитирован «посмертно», она узнала, что умер он в 40-м. Эти годы – с 33-го по 54-й, ей «мотали душу» – и ей, и ея дочерям. Вот и прошла так ея жизнь! Правда, она всегда была идеальным педагогом! Она любила свою профессию. Мне кажется, она могла быть «платиновым образцом» – «эталоном» лучшего педагога! Я ей многим обязана: я была очень упрямой девчонкой… и не очень образцовой ученицей! Но она меня «поставила на правильные рельсы»: она научила меня «любить учение» (обычно учителя внушают ученикам отвращение к наукам, и ученики изощряются в «науке обманывать педагогов» и в совершенстве приноравливаются к тому, чтобы не «учиться», а «делать вид, что учишься». И это – уже на всю жизнь!) А благодаря уменью Маруси заинтересовать меня, мне – даже в самых тяжелых условиях – я умудрялась учиться, и экзамены для меня всегда были удовольствием. И не только в детстве и в юности, а даже уже в 1954-м году, когда, чтобы стать «горным мастером», мне надо было сдать экзамен по курсу «горнометаллургического техникума», я играючи осилила эту науку и сдала все одиннадцать предметов на «5» (единственная из сорока двух абитуриентов). И тут пригодилось «начало», заложенное Марусей в далеком детстве.
И Марусе приятно, перебирая старые фотографии, вспоминать тех, кого уж нет, и воскрешать ту атмосферу благожелательности, лишенной абсолютно всякой мещанской мелочности, жадности и эгоизма, то есть всего того, что пронизывает все и всех, куда ни глянь. И мне приятно видеть эту «живую ниточку», связывающую меня с последним на свете человеком, помнившим и любившим то, что было дорого мне – моих родителей и… родного Цепилово… всего того, чего уж нет.
Зачем я пишу это Вам? Вы всего этого не знали… как не знали ту девчонку, «под завязку» начиненную рыцарством a la Дон Кихот. Что от меня теперь осталось? Калека, на костылях. Уходят последние силы. Лишь костыли, на которых я вишу, как огородное чучело, меня и держат. И еще слова «Stirb zur rechten Zeit»*. Amen!
Теперь – пластинки из другой оперы: о Мовсесянах. Вчера я зашла к ним. Впервые после поездки в Одессу. Три недели мы не виделись. А повидались лишь мельком. Девочки со своим кавалером уходили на «День Рождения» Павла Леонтьевича. (…) В Москве, кажется, мороз; у нас – слякоть пополам со снегом. Весна, похоже, будет затяжная, поздняя. И зимы по-настоящему не было. Надо ждать морозов во время цветения садов.
Сидели мы с Софьей Богдановной. Она стареет (никто не молодеет, увы!) Очень горюет, что обе дочки – «не устроены». Сокрушается: «Ну, не вышла замуж… Так хотя бы – и без мужа – заимела бы ребенка!» (неясно: одного – на двоих?) Кто знает? На днях повстречала одну знакомую. «Общественницу». Прежде занималась цветочками; теперь – старушками (ей Богу, цветочки лучше!) Говорит: «Плохо одиноким. Как-то надо о них заботиться. Но еще больше мороки с теми, у кого дети – особенно сыновья. И еще хуже, если внуки. Им еще обидней: ну, детей растишь; вроде – так и надо. А внуки? В них еще больше вкладываешь: ведь уже и силы не те! И еще обидней – черная неблагодарность!» И так во всем микрорайоне, то есть в ея «вотчине». Кажется: все упирается в деньги. А сами-то деньги? В… пшик! Вся экономика стоит на песке. Есть ли где-нибудь «твердая основа»? Если все происходит из лжи, питается ложью и порождает лишь ложь, то… «Что есть Истина?» На этот вопрос Пилата и Христос не ответил. Может быть, ответит… Иуда? Но «иуд» так много! На всех… веревок не хватит. Где Истина? И в газетном ларьке ея нет: «Россию» – продали; «Правды» – нет: остался лишь «Труд».
Ну, закатила я Вам письмище! Не обессудьте! Servus!
Ф.
* «Stirb zur rechten Zeit» - «Счастье – это умереть вовремя (Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра», главка «О свободной смерти»).
Евфросиния Керсновская – Лидии Ройтер
22 июля 1983 года
Дорогая Лидия Эразмовна!
Я Вам очень давно не писала. И не оттого, что «писать не о чем» (это – глупая отговорка: сюжет – всегда найдется… если хочешь его найти), и не оттого, что «времени нет»: «лишнего времени» вообще не существует, а «необходимый минимум» для написания письма – всегда находится… если есть желание его найти. Но не писала я Вам, потому что знала, что Вы «где-то за городом» накачиваете своего внука свежим (или, по меньшей мере, чистым… в сравнении с Москвой) воздухом, а быть одновременно повсюду – прерогатива лишь Господа Вездесущего. Но вот узнала от М., что Катя была у Вас. Вернее – беседовала с Вами. И это – без всякой телепатии. Отсюда вывод: Вы – даже на летнее время – не порываете пуповину, связывающую Вас со столицей мира. И ничего удивительного в этом нет: ведь «пуповина» – самый надежный вид снабжения, и все москвичи, где бы они не обретались, никогда не порывают связь с питающей их пуповиной.
Однако Вы не обижайтесь, если я выскажу свой взгляд на то, что соединяет (без «пуповины») бабушек (и дедушек) с внуками. Боюсь, что подобная связь бывает и не очень надежной, и… очень «односторонней»: бабушка верит в привязанность, а внук? Это уж зависит от многих обстоятельств, в которых превалируют эгоистические соображения (те, что принято называть «потребительскими»). Несомненно: бескорыстие – самое прекрасное качество. Только… где его найти?!
Итак: «преамбула» сделана. А само письмо… О чем я хотела писать? Сама не знаю. О чем хотелось бы побеседовать – на бумагу не ложится, а то, о чем принято писать – и пресно, и скучно. Ну, напишу, что у нас и жарко, и сухо, гремят «сухие грозы»; временами – то тут, то там – выпадает град (почти без дождя, а это – самый вредный). Земля сухая. Трещины глубоки и земля так спеклась, что «не принимает воду» – даже если можно поливать. Но поливать невозможно: на ночь воду отключают, а днем – запрещено. А если и пренебречь запрещением, то поливать днем… это как лить на раскаленную сковородку.
Время бежит поразительно быстро: понедельник, вторник, пятница, и – хлоп! Неделю – будто корова слизнула! По воскресеньям езжу в Пятигорск. Чаще всего к Мовсесянам. Иногда – к другой моей «подшефной» любительнице цветов, Фроловой. Но ей девяносто два года. Даже девяносто три (через месяц). Она очень славная, но… девяносто три года! И к тому же – совсем глухая. А у Мовсесянов что ни воскресенье – то поминки или годовщина чьей-либо смерти. Будто это – единственный повод чтобы людям встречаться! А впрочем, может и впрямь – самый «безобидный» повод: соберутся, поедят, помолчат и… разойдутся. Так есть возможность… не сказать лишнего слова. У французов есть выражение: «du choqu des idees – jallit la verite» – «когда сталкиваются идеи, искры освещают истину». Очевидно, «истина» никому не нужна, а поэтому свои «идеи» (если они есть) все стараются запрятать подальше, а «идеи» в темноте хиреют, а без свежего воздуха – гаснут. Вот люди и привыкли не обременять себя необходимостью мыслить, то есть питать, вентилировать, одним словом – вынашивать и порождать идеи. К чему?
А чтобы не было слишком скучно, создают себе какой-нибудь «кумир», чтобы можно было нарушать вторую (кажется?) заповедь Господню. «Власть имущие» – если уж не чувствуют себя в состоянии самим стать «кумирами», то «натаскивают» толпы подвластных народов на обожание какого-либо «кумира». Безразлично какого: будет ли это «Родина», «Бригадный Подряд» или «Хлеб – Всему Голова!», а толпы обывателей вполне удовлетворяются более «осязаемыми» кумирами: кому – полированная мебель, кому – цветной телевизор, или просто – кучу тряпок. Пожалуй, более человечное желание – это иметь семью, детей. Но как раз в этом естественном желании редко кто и признается! Может, это оттого, что такое желание свойственно всему живому? Замечено, что любое животное – даже в самом обширном вольере, погибает, если у него нет уголка, «логова», в котором оно могло бы уединиться, укрыться. Для человека подобное «логово» – и есть семья. А нас с младенческого возраста толкают в «коллектив», то есть – в вольеру, где ты все время «на глазах». Может, поэтому люди так легко спиваются и так часто сходят с ума.
(…) А вот что сказать об Ане? Софья Богдановна, для своего возраста, полна энергии. Но… ей восьмидесятый год… А Аня без нея – абсолютно беспомощна. К тому же она мнительна и… неуживчива. Ей очень нужна надежная опора.
Ну ладно! Давно известно: «чужую беду – руками разведу!»
Ну, а что сказать о себе? Дела мои совсем плохи. Не могу сказать, что хуже. Сердце? Пока есть препараты Digitalis’а, я его могу «держать в вожжах». «Двигательный аппарат»? Боль меня не очень мучает, но… Двигаться все трудней. И беда не в ногах, а в позвоночнике и в том, что я быстро теряю силы. Хуже всего обстоит дело со зрением. Все же надеюсь, что ослепнуть не успею: мне ведь уже семьдесят шесть лет. Я все же в медицине кое-как разбираюсь.
А вообще, грустно. В Ленинграде у меня уже никого нет; в Одессе догорает последний огонек, освещающий мое (вернее – наше общее) прошлое. Ей, моей «Марусе», уже девяносто один год. И она практически слепая. Ни моих писем не прочтет, ни сама написать не может. А переписка через «секретаря» – это «поцелуй через стекло». Умер доктор Мардна, с которым, хоть изредка, переписывалась. Умер и мой кузен (и друг детства) Юрик, так тосковавший по нашему Цепилову, нашему общему детству. Даже Ариша – и та умерла! Осталась лишь Татьяна Григорьевна Авраменко. Но она в Казани.
Связь с Наташей оборвалась: они убедились, что я для них «прошедший этап» и полезной быть не могу. К себе ее с детьми я брать не могу: себя я обслужу, но их? С ихними постами и молитвами с ума сойти можно! А посылать по сто рублей, получая сто двадцать, мне тяжело. Жаль, что книг нет: в библиотеке, даже если разберешь навозную кучу, то вряд ли найдешь жемчужное зерно! А Вам желаю всего доброго!
Ф.
Если Вам не трудно, дорогая Лидия Эразмовна, то перешлите эту «цидулку» Катюше <Мовсесян>. Я знаю адрес ея дома, но номер квартиры мне неизвестен.
Дорогая Катюша!
Боюсь, что Ваша «Московская кампания» затянется на более продолжительный срок, чем это предполагалось! Сама операция (если это катаракта, не осложненная глаукомой) при нынешнем уровне глазной хирургии – операция легкая, но предоперационный период может затянуться: врачи в подобных случая любят «перестраховываться» и прежде, чем приступить к хирургическому вмешательству, добиваются «благоприятного фона», то есть «доводят до кондиций» «остаточный азот» крови, сахар и прочие «гуморальные отклонения», и, в таких случаях, их торопить не стоит… особенно, если стоит жаркая погода.
Одним словом, похоже, что мое письмо Вас еще застанет в Москве (учитывая, что пишу через посредство Лидии Эразмовны, которая может оказаться в «нетях». Я пишу на ея московский адрес, но может получиться, что она где-то на «лоне природы»).
Если это Вас не обременит, то купите для меня два-три пузырька Дигоксина (или Диситоксина) и два-три «колеса»… изоляционной ленты – черной или голубой. Это можно отправить бандеролью.
Я бы Вас не беспокоила, если бы Наташа Орловская или Валька Ольховская были бы дома. Но первая обретается где-то в лесу под Горьким, а вторая – лечит где-то свои воображаемые болезни.
У Вас в Пятигорске все как будто в порядке: как полагается – нашествие гостей. А когда не гости, то сами идут в гости, так как обязательно по кому-нибудь поминки справляют! Приходит Мэри (она толстеет). Куксится Аня (она боится потолстеть, а тут – вареники с вишнями!) А мама – молодец: носится туда-сюда как метроном (хотя ей не мешало бы поберечься). Дамы пьют водичку.
Всего доброго!
Привет Федору Алексеевичу.