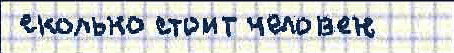|
п»ї |
Никита Алексеев. «Делай что должен, будь что будет». Вступительная статья к двухтомнику иллюстрированных воспоминаний Евфросинии Керсновской «Правда как свет»
Что такое тексты и рисунки Евфросинии Керсновской? Бесхитростные воспоминания и сопровождающие их любительские рисунки, или сильнейшее произведение словесности и искусства (несмотря на то, что профессиональным литератором и художником Керсновская не была)? Ответить на этот вопрос можно, не только вдумавшись в жизнь этого удивительного человека, но и попытавшись проанализировать ее наследие в контексте российской культуры ХХ века.
Биография Керсновской (не хочется употреблять агиографический термин «житие») гениально рассказана ею самой, но все же вот беглый очерк ее жизнеописания. Она родилась 24 декабря 1907 по старому стилю, то есть 6 января Ее мать Александра, урожденная Каравасили, принадлежала к старинному и хорошо известному греческому роду. Один из ее предков Яннис Каравасили, член тайного общества («Общество друзей»), боровшегося за освобождение Греции от османского владычества, был в Когда размышляешь о твердости духа Евфросинии Керсновской, поневоле задумываешься, не сыграли ли здесь немаловажную роль гены. Был у нее и старший брат Антон, в 1920-е годы эмигрировавший во Францию, ставший видным историком русской армии, скончавшийся в 1944-м и похороненный на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Первые годы жизни – обычная размеренная жизнь в сытой и многоликой Одессе. Отец работает в предварительном следствии, мать преподает французский и немецкий языки, Евфросиния учится в гимназии. Тут же после революции у маленькой Фроси происходит странное знакомство с подростком-японцем. Откуда японцы в Одессе?*[1] Впрочем, сама Керсновская приводит одесскую поговорку «Одесса отличается от Аравии только тем, что здесь арабов нет», а японцы, наверно, были; во всяком случае, этот мальчик наставляет маленькую одесситку в бусидо, бесстрашном пути самурая. Впрочем, кто бы ни начертал первым этот девиз на своем щите, он как нельзя лучше выражает рыцарственность души Евфросинии Керсновской, а Орлеанская Дева, несомненно, была одной из ее любимых героинь. Но в окаянном 1919-м в Одессу, отчасти уже обалдевшую от войны, революции и распри, приходят большевики. Служителя царского «кровавого режима» Антона Керсновского чекисты, естественно, арестовывают. Почти чудесное вмешательство бывшего подследственного, невиновность которого была доказана Керсновским, вхожего в ЧК, спасает его от расстрела. На французском военном корабле семья Керсновских бежит в Румынию и обосновывается в Бессарабии, на берегу Днестра. Несомненно, Бессарабия – ключ к феномену Евфросинии Антоновны, и вот почему. Это край Европы, где веками внахлест взаимодействовали польское, турецкое, венгерское, австрийское и русское влияния. Здесь спинами друг о друга терлись православие, католицизм и иудаизм. В этих местах люди не могли не говорить на нескольких языках, и в этом румынско-польско-русско-украинско-идишно-немецком Вавилоне мыслящий человек приобретал способность к очень замысловатому, а при удаче, и очень трезвому взгляду на действительность. Если учесть, что, кроме языков, необходимых в Бессарабии, Керсновская с детства знала французский, литературный немецкий, в какой-то степени итальянский и – от матери – разговорный греческий, то ясно: она, искренне считавшая себя русской, думала холистически. Ей важны были не конкретные морфемы и фонемы, а то истинное значение, которое несет в себе конкретный логос, будь он произнесен устами Бога или последнего чудовища из недр ГУЛАГа. Цельность и широта мировоззрения Керсновской объясняется и совершенно материалистической причиной: природа Бессарабии щедра. Втыкаешь палку в землю, и, если делаешь то, что должен (то есть не заливаешь эту палку цементом, а поливаешь ее водой), она через несколько лет благодарно станет щедрым плодоносящим деревом. Итак, Керсновские поселились близ города Сороки, на границе с тогда еще польской южной Буковиной. Фрося закончила кишиневскую гимназию, мать преподавала языки, а отец, «джентльмен до кончика ногтей» и совершеннейший горожанин, про деревню знавший только, что туда ездят на охоту, не очень понимал, как жить дальше. А кормиться было надо. Семья владела частью родового поместья в Цепилово, и Евфросиния занялась работой. Закончила ветеринарные курсы, прошла практику у опытного соседа фермера и постепенно подняла образцовое хозяйство: акклиматизировала у себя на поле урожайный безостный ячмень, очень устойчивую к болезням шестирядную рожь и редкую итальянскую кукурузу Cinquantino, разводила породных ланкастерских свиней и скрещивала туркестанских овец-каракуль с местной расой. Подумаем, что это значит? Румыния тогда была полуфеодальной аграрной страной с авторитарным режимом, быстро скатывавшимся в фашизм. Половиной земель владели коррумпированные магнаты, остальная поделена была между крестьянами-арендаторами и мелкопоместными владельцами. Эти были ближе к крестьянам, чем к крупным землевладельцам: они сами доили коров и подрезали виноградные лозы. И, ничего странного, симпатизировали Советскому Союзу, где, как они считали, добавочный продукт делится честно между всеми трудящимися. И были уверены, что на Рождество и Пасху стол должен ломиться от домашних окороков, жареных гусей и солений, кувшинов с домашним вином и цуйкой и заботливо приготовленных сладостей. Вот Евфросиния Керсновская и самоотверженно работала ради того, чтобы у нее в Цепилове благодатно, на пользу всем, свиньи поросились, клубника благоухала и услаждала нёбо, любимые родители могли вести привычный образ жизни, а брат, учившийся во Франции, был обеспечен. В редкое свободное время – делала дальние конные поездки по Карпатским горам и общалась с соседями-тружениками вроде нее. В 1936-м умер ее отец, которого она боготворила. В 1940-м пришли советские: «воссоединили» Бессарабию с СССР. Евфросиния их встретила с надеждой, ведь они избавят народ от эксплуатации, но первое, что эти люди сделали, – выгнали ее и мать из родного дома и конфисковали все имущество, вплоть до одежды. Керсновскую поразило, прежде всего, не то, что они оказались нищими и бездомными, но то, как нелепо, антиэстетично выглядели пришельцы, и то, насколько бессмысленно они распоряжались изъятой – награбленной – собственностью. Здесь – второй ключ к феномену Керсновской. До тридцати трех лет она не видела целенаправленной злобной глупости и только в зрелом возрасте, будучи умелым и умным человеком, столкнулась с властью, которая очень хорошо знает, как убивать, а напоить лошадь – не умеет. Да, Румыния под Антонеску – это безобразие, однако там скошенный хлеб не гноили под снегом до весны, и простое знание, что надо делать положенное, и помогло Евфросинии Керсновской с честью выдержать всё предстоявшее ей. НОЖНИЦЫ НА ПОЛУ Итак, советская власть. У Керсновской хватает интуиции переправить мать в Румынию: у этой дворянки, предпочитавшей изъясняться по-французски, не было шансов выжить под Сталиным. Но отъезд матери для нее – трагедия, это потеря части жизни. Далее – несколько странных и страшных месяцев в промежуточном состоянии между тем, что есть, и тем, что будет: ночевки под открытым небом, работа по найму в саду и допросы в НКВД. И настает пятница 13 июня 1941. Ее вызывают на очередную «беседу», она понимает, что это конец, собирает узелок с бельем и покорно, будто агнец, идет на заклание. Этот день Евфросиния Керсновская назвала своим «Великим Постригом». Послушнику, решившему принять монашество, предлагают три раза бросить на землю ножницы, которыми у него срезают прядь, обозначив этим отказ от мира. У Евфросинии были три шанса не поднять с пола эти фатальные ножницы: то нкавэдэшный начальник куда-то отлучился, то некому было подписать повестку, то ей сказали: «Беги ты, они не догонят». Она не воспользовалась возможностями, потому что fais ce que tu dois, advienne que pourra. А дальше… совсем пунктирно, потому что об этой Голгофе надо читать, то, что написала Керсновская. Долгий, жуткий этап в «столыпинском», и самое мучительное – не жажда и голод, даже не неизвестность, а стыд, оттого что женщинам и мужчинам, трясущимся по шпалам в сторону Сибири, приходится справлять нужду прилюдно, в дыру, проделанную в стене вагона. Прибытие в гиблые нарымские болота, под власть мелкого беса-начальника Хохрина (дает же Бог говорящие имена!), голод, холод и лесоповал в статусе «вечной ссыльной»; побег куда-то на юг, через замерзшие болота и тайгу: Керсновская слышала, что в Томске (где он, этот Томск?) есть польский консул (Польши-то уже два года нет), и он ей поможет вступить медсестрой в формирующуюся там польскую армию, так как она говорит по-польски. Евфросиния за несколько месяцев дошла до Алтая, проделав больше полутора тысяч километров, и как ей это удалось, можно только угадывать. Наверно, потому, что у нее была почти животная страсть к жизни, но и – ангельская любовь к природе, ко всякой твари. И – арест, следствие, которому не удалось доказать ее вину в шпионаже, расстрельный приговор по обвинению в «клевете на жизнь трудящихся в СССР» и за побег. Ей предлагают написать прошение о помиловании, она отказывается: «Требовать справедливости не могу, милости – не хочу». Ничем не добившись от нее признания вины, приговор ей заменили десятью годами исправительно-трудовых лагерей. Дальше – смертельный пеший этап в Томск, затем зона под Новосибирском, и тут ей «везет». Она добивается возможности работать на свиноферме, несмотря на предупреждение, что такой выбор может кончиться для нее крайне плохо. Фрося идет спасать свиней, мрущих от грязи, бескормицы, главное же – от безразличия заключенных-свиноводов. Здесь она оказывается в своей стихии. Свиньи начинают удовлетворенно хрюкать, но на Евфросинию обрушивается обещанная беда. Она неосторожно высказывается по поводу антирелигиозных стихов Маяковского, мол, «свинство какое-то», что оказывается поводом снова отправить ее под суд. Всё могло бы выглядеть как абсурдный трагифарс, если бы не приговор: еще десятка, с поражением в правах на следующие пять лет. Это уже 1944 год. Страшная война идет к завершению, ну а Керсновская следует по Енисею на судне, в огромной общей каюте, где рядом с ней более двухсот уголовников, которые выводят ее из себя издевательством над стариком-професором; юные проститутки и матерые воровки соответствуют ее представлениям о humanitas еще меньше, чем даже нарымский Хохрин, в поступках которого был хоть какой-то смысл. И потом, на долгие годы, – Норильск. Работа на стройке, на пятидесятиградусном морозе, в вечной ночи. Далее она попадает в лагерную больницу, ее оставляют там медсестрой, и это – окончательный ад. Здесь ей приходится выхаживать живых трупов, у которых нет шансов на воскрешение. Поэтому, когда ее отправляют работать в морг, – это счастье. За год с небольшим Евфросиния произвела 1640 вскрытий! Но в морге легче дышалось, она хотя бы не видела страданий жертв, вчера погибавших от пеллагры, дизентерии и туберкулеза, и во время работы ничто там не напоминало, что она раб, – так она пишет сама. Но ее оттуда изгнали, и правильно. Останься она со скальпелем возле цинкового стола, не было бы последовавшего дальше. А дальше она закапывала трупы в жидковатую субполярную почву, отмерзающую на два месяца в году. Любовалась нищими, бледными цветками, росшими возле могильных рвов. И напросилась трудиться в шахте, рубить уголь. Добычей арктического антрацита на пользу социалистического общества она занималась до 1960-го в должности навалоотбойщика, канатчика, скрейпериста, горного мастера, помощника начальника участка, бурильщика и, под конец этой шахтерской аскезы («advienne que pourra…»), трудилась взрывником: для политзэка – это немыслимое доверие. Впрочем, ей в нем отказали. Выгнали из шахты, и она работала грузчиком-лесогоном – прекрасная работа для пятидесятилетней женщины! В 1952-м ее освободили из лагеря, через пять лет ссылки и «поражения в правах» она на заработанные шахтерские деньги съездила на родину в Бессарабию. Увидела, что от родного дома не осталось следа, поклонилась могиле отца и поклялась больше не возвращаться в Цепилово. Но узнала, что мать жива, что она в Румынии, и чудесным образом, по длинной цепочке, нашла ее адрес. Стала делать все, чтобы соединиться с ней. И каждое лето на свои шахтерские добиралась на юг, совершала пешие походы по Большому Кавказу и свои странствия документировала сделанными с натуры акварелями. Понять, как эта уже немолодая женщина, без альпинистского снаряжения, сумела преодолеть опасные ледники и перевалы, столь же трудно, как представить ее хождение из Нарыма на Алтай пятнадцатью годами раньше. Конечно, дело в уже упомянутом: в страсти к жизни, в любви к природе и в девизе: «Делай что можешь…». В 1958-м ей удалось встретиться с матерью в Одессе и, пробившись через советские конторы, добиться ее возвращения в СССР. В 1960-м, заработав пенсию 120 рублей (максимальную по тем временам), она купила половину домика в Ессентуках и поселилась там с мамой. В 1964-м мать умирает, и Евфросиния вступает в заочный диалог с ней, пытаясь «вспомнить всё» – от детства до жизни в Ессентуках, от минут блаженства до крайних пределов страдания. На протяжении нескольких лет она создает двенадцать рукописных тетрадей, проиллюстрированных 700 рисунками, а также двенадцать альбомов на ту же тему, это 680 рисунков с подписями. Евфросиния всегда рисовала по обстоятельствам. В лагере и в норильской ссылке это были поздравительные открытки и рукописные детские книжки с картинками для детей знакомых лагерников. В путешествиях по горам делала наброски с натуры. В Ессентуках, чтобы порадовать мать уютом, писала маслом натюрморты с цветами, копии марин Айвазовского, пейзажей Шишкина и развешивала их по стенам их убогой комнатки. Но когда Евфросиния приступает к иллюстрации своей рукописи, на все это у нее уже не остается времени. Пока позволяет здоровье, она продолжает совершать дальние походы по горам Кавказа. И, как когда-то в молодости в Цепилове, занимается садоводством и цветоводством на маленьком приусадебном участке. Цветы у нее вырастают великолепные, фрукты – вкуснейшие, но она не торгует ими на рынке, а даром раздает желающим. Чем приводит в оторопь, а иногда и в возмущение практичных жителей Ессентуков, привыкших жить за счет курортников. В 1988-м у нее случается инсульт, но благодаря жизненным силам и заботе друзей она выздоравливает. В перестроечном 1990-м журналы «Огонек» и «Знамя», выходившие тогда миллионными тиражами, публикуют фрагменты ее воспоминаний и некоторые рисунки. В 1990-м тогда еще советские власти и в 1991-м уже власти суверенной Молдовы принимают решение о реабилитации Евфросинии Керсновской. Почему так поздно? Ведь со времен «оттепели» она обращалась с требованием реабилитации не меньше семи раз. Наследники всех этих Хохриных, Салтымаковых и Кошкиных, глумившихся над ней в зонах ГУЛАГа, вновь и вновь пересматривая дело, намеренно отказывали ей, считая ее «антисоветчицей». Она умерла 8 марта 1994 года. Прочитав воспоминания Евфросинии Керсновской и внимательно посмотрев ее рисунки, поражаешься многим вещам сразу. Ясности, точности и трезвости ее памяти. Фантастическому жизнелюбию, лишенному сентиментального оптимизма, но и не окрашенному трагическим фатализмом. Естественному альтруизму: ты просто должен помочь страждущему, и не надо размышлять об этом. Рыцарственному чувству чести, не оставлявшему ее в самых жутких обстоятельствах. Единственное, что она не могла понять и простить – это вторжение в пространство ее личности. Отступить от своего point d’honneur Керсновская не могла никак и никогда. И, возможно, больше всего восхищает в этом удивительном человеке то, что, приобретая страшной ценой жизненную мудрость, она не теряет внутренней детскости. Она наделена драгоценным даром – не-старением. ИСКУССТВО, КАК ПОЛУЧАЕТСЯ Однако только экзистенциальной мощью феномен Керсновской не исчерпывается. Для его понимания важен общекультурный смысл ее наследия, ведь пристальному взгляду ясно, что тексты и рисунки Керсновской для истории российской литературы и искусства значимы не менее чем произведения авторов, справедливо считающихся великими. Сперва о литературной части. Несомненно, Евфросиния Керсновская очень хорошо владеет русским языком, причем это тот русский, на котором говорила и писала дореволюционная средняя интеллигенция. Чистый, не очень богатый, чуждый новшеств и вульгаризмов. В него естественным образом вплетаются усвоенные в детстве и юности французские, румынские, греческие и украинские слова и фразы, но, несмотря на десятилетия, проведенные среди уголовников и вертухаев, полностью отсутствуют признаки ненормативной лексики, даже следов уголовной фени не заметно. Это, в частности, и достоинство, и недостаток прозы Керсновской, один из тех моментов, что позволяют утверждать: да, она не является «настоящим писателем», не использует все богатство языка. Признаем: Евфросиния Керсновская ничего не «сочиняет», она «просто» излагает то, что помнит. Варлам Шаламов тоже вроде бы ничего не придумывает, он тоже описывает увиденное и пережитое. Однако прочитаем страницу Керсновской и страницу Шаламова, и понятно: он беллетрист в высоком смысле, то есть прихотливо, в соответствии с внутренней авторской необходимостью, ставит и смазывает акценты, строит сложные семантические аккорды и исподволь, так что читатель сперва и не заметит, вплетает в ткань текста почти невидимые метафоры. У Керсновской этого нет и не может быть по природе ее творчества. Кроме того, великолепно выверенным писательским инструментарием Шаламов пользуется для того, чтобы убедить читателя: ГУЛАГ – это ад, добро там невозможно, и даже праведник, попав туда, неизбежно превращается в беса. Соглашаться или нет с этой идеей – другой вопрос, но отрицать, что Шаламов гениален в использовании своих писательских возможностей для ее художественного воплощения, крайне трудно. Шаламову по сути противостоит Александр Солженицын. Он, тоже пользуясь на свой лад мощным арсеналом литературных приемов, объясняет: душу сохранить можно в любом аду, если придерживаешься определенных моральных установок. Согласиться с Солженицыным, наверно, легче и соблазнительнее, чем с Шаламовым, но важнее, что даже документализм «Архипелага ГУЛАГ» – это, прежде всего, литература. Разумеется, «лагерная тема» в русской литературе этими двумя противостоящими друг другу писателями не исчерпывается, есть много других, но приведены они здесь для того, чтобы показать, что Керсновская находится даже не между этими полюсами, а где-то вне биполярной вселенной. Она ни в чем не стремится убедить читателя; даже безоговорочно придерживаясь моральной установки «делай что должен, пусть будет что будет», она не оказывается дидактичной. Разумеется, в огромной степени ей в этом помогает именно отсутствие профессиональных литературных амбиций. Но прочитай эти тексты великий французский культуролог и литературовед Ролан Барт, не исключено, что он увидел бы в них приближение к вожделенной и недосягаемой «нулевой степени письма», на которой исчезает как разница между автором и текстом, так и пропасть между натурализмом и символизмом. Непрофессионализм Керсновской как художника еще более очевиден, чем ее литературный непрофессионализм. О ее рисунках в автобиографических тетрадях и альбомах немного ниже, но ее пейзажи, цветы и поздравительные открытки это типичная продукция дилетанта, «воскресного художника» с немудрящим вкусом и очень ограниченными возможностями. Ее художественные предпочтения ничем не отличаются от тех, что лелеяло большинство граждан СССР советских времен. Она в восторге от «Василия Теркина» Непринцева. Но, и это очень важно, даже в этом до крайности китчевом продукте сталинского соцреализма она способна разглядеть простую и чистую радость. Ей нравится залакированный иллюзионизм «Письма с фронта» Лактионова – но прежде всего потому, что эта картина излучает теплый послеполуденный свет, которого ей так не хватало в ледяном аду ГУЛАГа. Да, она художник-любитель, один из представителей «наивного искусства». Притом она не может быть причислена к гениям-«непрофессионалам» вроде Анри Руссо, Нико Пиросмани или Павла Леонова. Но это, парадоксальным образом, не делает ее рисунки менее убедительными и мощными. Более того, именно благодаря неумелости и детскости рисунки Керсновской, сопровождающие ее воспоминания, производят на зрителя ошеломительное впечатление. В истории отечественного искусства, как и в русской литературе ХХ века, есть великолепные образцы «лагерного жанра». Например, рисунки замечательного художника Бориса Свешникова, попавшего в лагерь в 1946-м девятнадцати лет от роду и вышедшего через восемь лет, едва не умершего от истощения. Он – виртуозный график, его карандашу и перу подвластен широчайший диапазон художественных приемов, но его рисунки, от которых по позвоночнику идет озноб, – это вовсе не реалистическое изображение лагерных ужасов, а нечто близкое к инфернальной галлюцинации. Или – эстонец Юло Соостер, один из предшественников московского концептуализма, отсидевший семь лет, с 1949-го по 1956-й. Его работы, сделанные под черной тенью лагерного опыта, вовсе не являются свидетельствами ужаса, пережитого в карагандинских рудниках, это отстраненные, холодные метафоры, и они пробивают сознание как раз потому, что ничего не говорят прямо. Евфросиния Керсновская – их антипод. Она рисует не так, как можно, приближаясь к идеалу рисунка и живописи, а так, как получается. Впрочем, есть у нее и еще один антипод, Данциг Балдаев, тоже художник-любитель, тюремный надзиратель и на пенсии рисовал аккуратные картинки на темы вроде «Укладка трупов врагов народа в “аммональник”», «Ликвидация зэков», «Применение древнерусской пытки “дыба” в тюрьме НКВД», снабжая их подробными экспликациями, сделанными наклонным чертежным шрифтом. Понятно, что Балдаев, будучи лишенным возможности мучить людей в действительности, компенсировал это скрупулезно рисуя наглядные пособия. Керсновская, как в своих текстах, в рисунках ни о чем не фантазировала, ничего не символизировала и не занималась автопсихоанализом. Она, будучи немыслимо здоровым душевно человеком, только свидетельствовала о том, что она видела и поняла. Делала это, как получалось. Получалось это у нее весело и курчаво. Будто не пожилая женщина, пережившая такое, что и во сне не приснится, это нарисовала, а барышня рисует невинные и кокетливые картинки в семейный альбом. Рисунки про жизнь в Бессарабии – это отражение теплого света в Раю, это иллюстрация мысли Честертона о том, что парадиз – то, что думает ребенок, глядя на цветущий куст шиповника, когда солнце клонится к закату, но завтра непременно зальет мир своим светом. Рисунок, где она изобразила себя лежащей под бледным арктическим солнцем на склоне горы Шмитиха в Норильске, любующейся нищим северным цветком, – это ода к радости, похожая на стихи Мацуо Басё, пронизанная знанием того, что эфемерность и есть вечность. Если она рисует скалы Кавказа и горные дубы – это огненно пышущая жизненной силой магма, растущая, будто дивный цветок, из преисподней в небо. А один из самых страшных ее рисунков (Евфросиния в белом халате несет под мышками в морг, будто две фанерки, иссохшие от дистрофии трупы) бьет по сознанию именно тем, что сцена нарисована точно так же, как сцена радостного, щедрого празднования Пасхи в Бессарабии. В христианстве такое состояние духа называется плеромой, полнотой. Оки, этот японский мальчик, встреченный юной Фросей в Одессе, назвал бы это сочувствием Будды всем тварям во всех вселенных. И совершенно нет нужды анализировать мировоззрение Евфросиниии Керсновской, куда важнее смотреть на ее рисунки и читать ее текст, написанный девичьим, округлым и уверенным наклонным почерком, привитым сперва в русской, а потом в румынской гимназии. Потому что здесь, в абсолютном синтезе визуального и вербального, и спрятана тайна сделанного Керсновской. В начале 1970-х (то есть одновременно с ней) основоположники отечественного концептуализма Илья Кабаков и Виктор Пивоваров, к этому времени уже признанные иллюстраторы детских книг, начали разрабатывать жанр альбома, в котором текст и изображение не могут существовать друг без друга, причем их взаимоотношения выражаются в разных формах. Картинка может напрямую иллюстрировать текст, либо текст – комментировать картинку, но иногда между вербальным и визуальным образуется зияние, там вроде бы нет ничего общего, но это только подчеркивает невозможность их восприятия по отдельности. Примечательно, что, будучи детскими иллюстраторами, Кабаков и Пивоваров в созданных ими альбомах использовали навыки, приобретенные в книжном деле, и, несмотря, на жесткую абсурдность и трагичность сюжетов, картинки в их работах несли отзвуки сказочной детской вселенной. В этом можно увидеть сближение с альбомами и тетрадями Керсновской, причем иногда это сходство может показаться почти буквальным. Например, Кабаков в своих детских иллюстрациях и далее в альбомах явно ориентировался на стилистику Владимира Конашевича, а, судя по всему, Керсновская также видела книги, оформленные этим замечательным мастером в 1930–1950-е годы, и вольно или невольно вдохновлялась ими. Более того, иногда совпадения оказываются совсем наглядными. В свое время Кабаков проиллюстрировал детскую книжку про какого-то молдаванина Гугуцэ, и затем персонажи в барашковых шапках, вышитых жилетах и белых штанах стали постоянным мотивом в его творчестве, а выглядят они очень похожими на тех, кого изображала Керсновская в своих рисунках, посвященных жизни в утраченной Бессарабии. Разумеется, про альбомы Кабакова и Пивоварова Керсновская ничего знать не могла, как и они наверняка ничего не слышали о ней. Но тем интереснее появление в абсолютно разных обстоятельствах произведений, объединенных глубинным родством. Не стоит долго рассуждать о различиях («детскость» у Кабакова и Пивоварова, в высшей степени профессиональных художников, – это стилизация, а у Керсновской – естественная черта ее любительского рисования; они придумывали свои сюжеты, она не придумывала ничего; столичные, вполне успешные художники и шахтер-пенсионерка с неснятой судимостью, живущая в провинции, – представители совершенно разных социальных миров), интереснее задуматься, почему в какой-то момент, для того чтобы высказать нечто очень важное, лучше всего подходит литературно-визуальная форма, где текст и изображение немыслимы друг без друга? Кабаков и Пивоваров пришли к этому, осознав, что текст сам по себе – девальвирован, картинка сама по себе – тоже, и именно их синтез дает возможность сильного высказывания. Керсновская, несомненно, ничего не слышавшая о концептуализме, также поняла, что она не сможет рассказать свою жизнь только словами или только рисунками. И оказалась права: ее суховатая, незамысловатая проза и полудетские рисунки передают ужас людоедского режима отчетливее, чем страшные фотографии и историко-статистические выкладки. А когда она пытается нарисовать великолепные горные виды и словами выразить восторг, охвативший ее душу, благодаришь ее за чувство природы и любовь к ней. Ведь ответственность перед созданным не нами примиряет и спасает всех – верующих и неверующих, слабых и сильных, умелых и неумелых. Но вернемся к вопросу, чем драгоценны альбомы и тетради Евфросинии Керсновской? Прочитав текст и разглядев картинки, отвечаешь: это и важнейший исторический источник, и одно из самых сильных произведений словесности и изобразительного искусства, сделанных в России в ХХ столетии.
|
Материал сайта можно использовать только с разрешения наследников.
Условия получения разрешения.
©2003-2024. Е.А.Керсновская. Наследники (И.М.Чапковский ).
Отправить письмо.